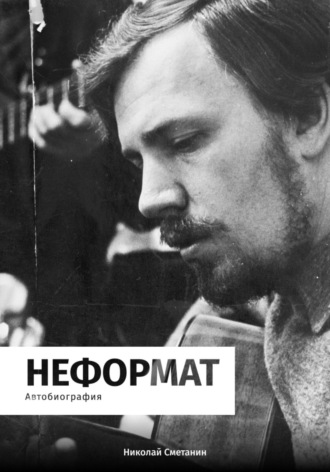
Полная версия
Неформат
Самое главное – подготовить и провести смотр художественной самодеятельности, это была моя основная задача на очередь. А в день посещения непременно должен был состояться концерт, который готовили пионервожатые. Они отбирали тех, кто поёт или танцует, всё организовывали, а я только репетировал музыкальные номера, потом аккомпанировал в концерте. В общем, с этой работой справился нормально.
После восьмого класса я уже поехал в лагерь музыкальным работником официально.
Пригласил меня как-то и наш обком комсомола в лагерь комсомольского актива, что устроили на реке Ухтохме, у деревни Маслово. Там был разбит палаточный городок, где проводили семинары. Туда завозили дней на пять комсомольских активистов, проводили с ними занятия, они уезжали, и приезжала другая смена. Я там был массовиком-затейником, то есть проводил какие-нибудь конкурсы. Мне дали книжку, где было множество разнообразных конкурсов и игр для школьников, я это освоил. И потом, там не было радио, просили поиграть иногда на баяне, например, вечером танцы устраивали. Танцы? Пожалуйста! А что я играл? Песни опять же. «У тебя глаза, у тебя глаза \ Синие,\ Как в степи гроза, как в степи гроза, \ Сильные…», как сейчас помню, эта песня оказалась самой популярной в то лето вместе с песней «А ты люби её, свою девчонку!»
Много лет спустя, помню, возникла у меня идея сделать прикольную (но и полусерьёзную) программу для нашего трио «Меридиан» под условным названием «Песни тоталитарного времени». Идея всем понравилась, а практически осуществить её нам помог Александр Краснов, один из журналистов и ведущих Ивтелерадио. Был 2002-й год, близилось 80-летие пионерской организации, и Саша предложил перейти от идей к делу – снять в студии телепередачу «Пионерские песни». Далее могли последовать, например, и «Комсомольские песни». Для съёмок я написал на бумаге названия песен, слова куплетов и тональности, петь решили по одному куплету. Прорепетировав разок в Сашином кабинете, мы двинулись в телестудию, где для съёмок уже было всё готово – и палатка, и "костёр", и «брёвнышки». Уселись поудобнее и, помолясь, начали. Сняли всё с одного дубля! Затем была незримая для нас работа телевизионной группы, и передача вышла в эфир 19 мая, в День 80-летия пионерской организации.
Это была программа о нашем детстве, его чистоте и неповторимости. В ней не было никакой политики, прославления компартии, а слово Родина никто не отменял и не отменит. На том стоим. Песни нашего детства свободны и независимы от чьих-либо пристрастий, они парят в недосягаемой синеве неба, солнца и дождя, далеко-далеко… Они неуловимы и бесплотны, им наплевать на то, что о них думают и к чему хотят пристегнуть, как бы кому этого ни хотелось. Их дом – наша память и наше сердце, если, конечно, они есть.
Глава 10
Дом восходящего Солнца
Сама по себе пионерская и комсомольская жизнь в школе меня занимала мало, я никогда не был в Совете пионерской дружины или своего отряда. В старших классах было предложение выбрать меня комсоргом – по той простой причине, что я отличник и, вообще, веду активную школьную жизнь, участвую во всех делах. А потом кто-то правильно сказал:
– Ну, он же единоличник, а ему придется организовывать нас, разве он будет этим заниматься? Вот ты будешь этим заниматься, скажи?
Я поднялся:
– Нет, честно, не буду, – говорю. – Не потому, что у нас ребята и девчонки плохие, нет, все хорошие, но у меня друзей по всем классам полно, очень много, я просто не смогу ограничиться одним классом. И потом, у меня столько интересов! Одни олимпиады по предметам чего стОят. А ещё у меня нет организаторского таланта, ну, просто нет его!
Я не стал говорить всем, что я общешкольный, вообще, космополит какой-то. Ко всем девчонкам и пацанам, в общем-то, хорошо отношусь, но организовывать…
– Ну, предложи кого-нибудь!
Я предложил. В общем, нашли человека. Так я не стал комсоргом.
Однако моя школьная общественная жизнь била ключом, и самые яркие впечатления связаны у меня, конечно, со сценой. У нас, в 37-й школе, был хороший, большой и удобный актовый зал, мест на 250, я думаю.
Впервые я вышел на эту сцену еще в 4-м классе, как чтец. Надо сказать, что в школьные годы я был очень застенчивым ребёнком, меня еле уговорили прочитать стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтова: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» Я был единственным в классе, кто мог прочитать достаточно громко и целиком такое большое стихотворение в таком большом зале, как наш. Девчонки могли выучить и прочитать, но голоса у них слишком тихие были, поэтому они сразу наотрез отказались, никто из них читать не хотел. Всё, что я помню об этом выступлении, – ни разу не забыл слова, хотя и жутко волновался. Уж как я рассказал, не знаю, похлопали, и ладно, но главное – я нигде не сбился. Это был единственный раз, когда я со школьной сцены читал стихи.
Очень мы любили тогда ставить «сценки» – и там без меня не обходилось…
В 6-м классе я дебютировал уже как музыкант, на баяне играл в ансамбле и подыгрывал солистам. Все учителя и ребята знали, что я учусь в музыкальной школе, играю на баяне, значит, я должен помогать классу и школе с художественной самодеятельностью. Я очень рано начал сам подбирать песни, естественно, на свое усмотрение и собственный слух, всем они нравились, всё подходило. Но надо же аккомпанировать, а не солировать, и я научился этому именно в 37-й школе. К старшим классам я практически всей школьной самодеятельности подыгрывал и в танцах, и в песнях, но сам пел только в хоре вместе со всеми. А выйти и спеть что-то самому, сольно? Нет, ни за что! Я стеснялся, очень стеснялся.
Именно в самодеятельности у меня появился еще один друг – Коля Власов, симпатичный, улыбчивый парень из параллельного класса. У него был великолепный, красивый от природы и сильный голос, он исполнял песни из репертуара Муслима Магомаева, а я играл ему на баяне, подбирая уже сложные вещи, глубокие, настоящие эстрадные. Он пел много песен популярного тогда композитора Арно Бабаджаняна – «Королеву красоты», «Не спеши», «Чёртово колесо», «Голубая тайга», «Лучший город земли» и другие. Здорово удавались ему и ранние песни Давида Тухманова. С ним я выучил все эти песни, они и мне пришлись по душе.
Коля был еще совсем молодой парень, лет четырнадцати – пятнадцати, но все признавали его лучшим певцом у нас в школе.
Наши шефы – механический завод – стали привлекать нас в свои концерты, в том числе и по области. Не скажу, что тембр Колиного голоса был очень похож на тембр Муслима Магомаева, но и хорошо, что не похож. Зачем? Он пел своим голосом, красивым, сильным и чистым – мне нравилось, не говоря уже о зрителях.
Однажды, когда профком механического завода (наши всегдашние шефы) организовал выезд кружка своей самодеятельности в подшефный для них Сокольский район, им пришла в голову мысль взять Колю Власова и меня с собой. При этом – лететь на самолёте! Мы с радостью согласились, даже не догадываясь, какие нас ждут там испытания…
Ещё перед концертом в селе Гари к нам подошёл подвыпивший местный парень и «душевно» предупредил, что после концерта они устроят нам нехилую ответную драку «за прошлый раз». Мы не знали, что там было в прошлый раз, но сразу догадались. Председатель профкома сказал нам, чтобы после концерта мы с Колей на улицу не выходили. И мы могли лишь слышать, как яростно дерутся и матюгаются на тёмной улице шефы с подшефными. До аэропорта нас провожала вся местная милиция на мотоциклах. В общем, еле ноги унесли оттуда – кто с фингалами, а кто и без оных… Вот такая смычка города и деревни!
Мы с Колей подружились, я ходил к нему в гости много раз. Его мама меня всячески привечала, она же видела, что мальчик-то я правильный, отличник и всё такое, то есть матом не ругаюсь, не пью, не курю… Но в конце 9-го или 10-го класса Коля… женился! Жену себе выбрал из своего класса. Доучивался он уже в какой-то школе рабочей молодежи.
К тому времени мой брат Вовка привлёк меня в школьный ансамбль. Его друг, Сергей Кочетков (среди друзей – Петрович), окончил музыкальную школу по классу контрабаса, у него свой контрабас был. Другой друг, Женя Поляков, играл на пианино, а мой брат – на гитаре. Сергей предложил:
– Вовка, давай ансамбль сделаем! Женька Поляков играет на пианино, ты, значит, на гитаре, твой брат – на баяне, я – на контрабасе…
А я их младше на четыре года: я был в шестом классе, а они в десятом, у них был ещё впереди 11-й класс. Целых два года у нас существовал инструментальный ансамбль: без единого микрофона, без усилителей, зато всё живьем, всё живое. Мы аккомпанировали певцам и пьесы еще играли. К примеру, играли «Русский сувенир» Андрея Петрова, такая эффектная вещь. Эту пьесу исполнял оркестр под управлением В.Людвиковского, мы её содрали приблизительно, как могли, потому что там-то целый оркестр, а у нас гораздо меньшие возможности. Особенно хорошо у нас получались пьесы А.Петрова из фильма «Человек-амфибия»: «Уходит рыбак» и «Эй, моряк!». Подбирали сами, без нот. Это всегда шло на «ура».
Коля Власов, которому сначала я на баяне играл, потом пел под наш ансамбль песню «Лучший город земли» из репертуара Муслима Магомаева. Кто-то из старшеклассников пел песни из репертуара Жана Татляна, например, «Фонари», «Осенний свет», «Воскресение». Девчонки замечательно пели песни из репертуара Ларисы Мондрус, Эдиты Пьехи и Майи Кристалинской – «Гололёд», «Иду я к солнцу» и другие модные эстрадные песни, а мы всё подбирали, что они пели, и даже такие сложные вещи, как «Танцующие Эвридики»! Последнюю песню я обожаю до сих пор! Это был мой первый опыт игры в ансамбле.
При этом игру на баяне для всей школьной художественной самодеятельности никто не отменял. Было лестно, что ко мне обращаются с просьбами старшеклассники, приглашают меня. Благодаря музыке, я стал человеком вне своего класса, общешкольным музыкантом, хотя со всеми одноклассниками старался держаться ровно, дружелюбно, ссор и раздоров ни с кем не бывало. Впрочем, некоторые девчонки считали, что я зазнаюсь – и оценки у меня отличные, и по всей школе зовут выступать. Но я не чувствовал, что чем-то хвалюсь, зазнаюсь, просто помогаю всем, кто меня зовёт, просит подыграть.
Естественно, я и своему классу играл, но особо талантливых певцов и певиц, а тем более тёплых и постоянных компаний среди одноклассников, у меня не было. Могу здесь добавить, что был капитаном команды КВН своего класса и участником школьной команды КВН. Но и это не всё! Володя Таланов, мой одноклассник, позвал меня в кружок бальных танцев во Дворце пионеров, и я почти полгода туда ходил, но это у меня не очень-то получалось, как я ни старался – всё партнёрше на ноги наступал и не в ту сторону поворачивался. Мой прогресс шёл слишком медленно, и я ушёл оттуда – облом…
Теперь-то эта неудача вызывает лишь ностальгическую улыбку, а тогда меня этот случай расстроил, но и научил кое-чему.
PS. Семья Поляковых жила в трехкомнатной квартире на втором этаже дома, где на первом этаже жила сестра моей матери с семьей. Отец Жени, Александр Николаевич, участник Великой Отечественной войны, полковник запаса, работал директором завода «Ивтекмаш». Мать, Нина Ивановна, подполковник медицинской службы, была главным врачом психиатрической больницы в Богородском. В то время они жили, по нашим понятиям, весьма обеспеченно – большая трёхкомнатная квартира с хорошей обстановкой, основательный гараж, машина «Москвич-407». И книги! У них было очень много книг, что тогда редко встречалось в нашем рабочем местечке Пустошь-Бор.
Женя часто по-соседски приходил к моей родне, там-то мы с ним и познакомились. Он был старше меня всего на три года, но относился ко мне даже, я бы сказал, заботливо, как старший брат. Несмотря на разницу в возрасте, постепенно мы стали близкими друзьями. Он везде таскал меня с собой, просто говорил: «Коль, пошли-пошли со мной!» И я знал, что будет интересно и весело, что узнаю что-то новое и удивительное, что на любой мой вопрос у Жени есть готовый ответ. Если ему надоедало втолковывать мне очевидные для него вещи, он очень смешно отшучивался, у него было отличное чувство юмора. Однако никогда он меня не использовал, мол, сбегай туда-то, принеси то-то, никогда не кичился тем, что у него что-то есть, а у нас, в более бедной семье, этого нет.
Женя знал, что я хорошо учусь, читаю книжки – возможно, ему это во мне и нравилось, потому что он и сам любил читать. По своей природе Женя был очень аккуратный человек. Когда он давал мне книгу почитать, то всегда обложит ее газетой или другой бумагой, скажет: «Только ты не снимай эту обложку, так в ней и читай», – чтобы не закапал.
Особая статья – это общение Жени с младшими детьми. Он здорово умел разговаривать с ребятами любого возраста, быстро находил с ними общий язык. Если он кого-то ругал, то объяснял, за что же именно, но никому даже шлепка не давал, ничего подобного. Умел убедить детей – видно, внутренне он как-то любил и уважал их – такая натура была, педагогическая. И его признавали за авторитет, слушались. Кроме того, он был заводилой в спортивных играх – это у него получалось лучше всех, он и меня старался приобщить. Ещё он учился играть на пианино, у него был инструмент и приходящий педагог, три года с ним занимавшаяся.
Нина Ивановна, мама Жени, держала хозяйство в образцовом порядке. Почти всё свободное от работы и домашних хлопот время Нина Ивановна отдавала чтению книг. Любила играть в карты – и меня приучила. А Женя этого занятия не признавал, он во всём был какой-то особенный. Пока мы дружно играли в Кинга или Покер, он куда-то исчезал часа на три-четыре. Нина Ивановна к этому давно привыкла. А я обычно спрашивал: «Жень, а где ты был?» «На Лысую гору ходил», – отшучивался друг. «А где она?» – не унимался я. «Как-нибудь сходим, она совсем рядом». Однако к этой теме больше не возвращался. Видя, что я обиделся, он улыбался: «Вот станешь взрослым – сам туда дорогу найдёшь, увидишь. Не торопись туда, всему своё время». Вечно у него были какие-то секреты – при его-то открытости, лёгкости характера. Если вдуматься, тайна его личности так и осталась для меня до конца неразгаданной. Знаю одно: на формирование моей личности Женя оказал влияние, которое трудно переоценить.
Наша дружба продолжалась и в институтские годы, только я учился на матфаке, а Женя – на филфаке. Несмотря на свой общительный характер, он был из тех людей, которые не любят массовых сборищ, предпочитают побыть в одиночестве. В нашу компанию, в основном, матфаковскую и очень музыкальную, он иногда заглядывал, какое-то время общался с нами, но вскоре незаметно исчезал – думаю, хаотичный шум его утомлял. А вот петь он любил – это, возможно, его и держало около нас. Женился он на студентке математического факультета, Наде. У них родились два сына.
Окончив институт и отслужив в армии, Женя начал преподавать русский язык и литературу в школе. Вначале у него были 6-е и 7-е классы. Доверяя моей грамотности в русском языке, он иногда просил меня помочь ему при проверке диктантов, изложений и сочинений, особенно, если эти работы проводились в нескольких классах в один день. Честно скажу: проверить огромное количество сочинений 6-х или 7-х классов – работа долгая и утомительная, и Женя очень ценил мою помощь. В качестве отдыха и разрядки мы читали друг другу «перлы» из этих работ, которые специально выписывали в отдельные тетрадки. Например, встречались такие предложения: «Летя на юг, птицы долго летели над морскими волнами, но затем скрылись за углом». Или: «Птичка так усердно трудилась над постройкой гнезда, что даже вспотела». Хохотали мы с Женей так весело и громко, что Нина Ивановна не выдерживала и заглядывала к нам из кухни узнать, не случилось ли чего, а потом смеялась вместе с нами.
Женю интересовали многие спортивные игры: волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини-футбол и т.д. Больше всего он любил баскетбол, у него там многое получалось. Движения его были гармоничны, ловки и непредсказуемы для соперников, его координация меня восхищала. Хорошо был поставлен бросок с любой дистанции, он отлично знал не просто правила игры, но и их нюансы. Вот поэтому Женю часто приглашали не только играть, но и судить матчи в нашем городе и области.
В школе, где он преподавал, Женя не отказывался заменять заболевших учителей физкультуры. Он имел прочный авторитет среди учителей, а дети просто ходили за ним по пятам. Скольких ребят он приобщил к занятиям спортом, играя часами с ними после уроков то в баскетбол, то в волейбол, то в теннис!
В середине 80-х Женю и его жену Надю пригласили на Мадагаскар преподавать на французском языке школьную программу. Там он купил себе отличную фотоаппаратуру, много снимал в этой африканской стране. По возвращении в Иваново он серьёзно увлёкся фотографией, читал о ней, ходил на выставки, пробовал себя в различных жанрах съёмок. Особенно хорошо получались у него фотопортреты. Прошла одна выставка с его участием, затем другая – и на обеих он оказался в центре внимания.
К сожалению, в трудные 90-е годы работа учителя порой оценивалась не по его квалификации, не по творческому подходу к преподаванию и даже не по тому, как он научил детей своему предмету. Важно было, сколько учитель собрал денег на ремонт школы, причем эти деньги нигде не фиксировались. Евгений Александрович ушел из школы, потому что не мог собирать деньги на ремонт, не мог их требовать с родителей учеников, которые сами едва выживали. На этой почве возник конфликт с руководством. Женя заявил, что больше ни часа не будет работать здесь, и перешел в Школу Национальных культур.
Спустя три года мой друг решился открыть собственную фотолабораторию, что позволяло ему и творчеством заниматься, и денег подзаработать. Будучи свободным фотографом и имея высокую репутацию, Женя был в городе просто нарасхват – тут и массовые фото выпускников школ, и родительские заказы во время детских конкурсов, и свадьбы, и юбилеи. Во многих семьях хранятся фотоснимки, сделанные Евгением Александровичем Поляковым. Искусству фотографии Женя обучил своего младшего сына Сергея, передал и знания, и секреты, и аппаратуру.
В те годы мы с Женей виделись всё реже и реже, но при встречах по-прежнему чувствовали себя старыми друзьями – и так оно и было, вплоть до его внезапной кончины. У него было больное сердце, и врачи категорически запретили ему сильно волноваться и – что самое для Жени неприятное – заниматься спортом. Вот этот запрет Женя принять не смог. Помню, уговаривал его послушаться врачей, но куда там! «Я ведь понемножку, и только в волейбол…» При каждой возможности он заглядывал в спортзал химико-технологического университета и включался в игру.
Как-то я увидел его в городе, на площади Ленина. Он сидел на лавочке, очень бледный, бисеринки пота покрывали его лицо. Он мне слабо улыбнулся: «Ну, как дела?» Я ему: «Женя, да у тебя же приступ! Давай, я вызову «скорую»!» «Не надо, – говорит, – сейчас отдышусь и поеду домой…» А жили они тогда уже не в Пустошь-Боре, а в районе кинотеатра «Лодзь», он так и прожил всю жизнь в Иванове, за исключением нескольких лет работы на Мадагаскаре.
…Через несколько дней Жени не стало: у него случился очередной сердечный приступ прямо в физкультурном зале химуниверситета. Конечно, вызвали «скорую», но на сей раз врачи помочь ему не успели. Меня не было рядом в те его последние мгновения, но надо же случиться такому – вместе со своим другом там оказался Рома, мой сын. Вот они – причуды Судьбы.
В городе Женю знали и любили, очень многие люди пришли проводить его в последний путь – те самые, кому он сделал в жизни немало добра и кому он раздаривал своё неугомонное сердце, пока оно не остановилось.
Думаю, ивановцы будут его помнить долго. А я… Я не забуду своего друга Женю Полякова уже никогда.
Глава 11
Свой ясный огонь, моя радость, найдёшь без труда
Школьная успеваемость по всем предметам у меня была примерно одинаковая, проще говоря, – отличная. Мне были интересны почти все предметы, поэтому к десятому классу, когда пришло время решать, кем быть, выбор у меня был очень широкий. Педагоги советовали мне самые разные пути.
Например, учителя химии и биологии говорили: «Только медицинский, только медицинский!» И медицинский институт одно время, действительно, стоял у меня на первом месте. Наш класс водили в анатомический театр, чтобы мы знали, с чем имеют дело медики. Это была познавательная экскурсия, и в отличие от одноклассниц, меня вид и запах трупов не шокировал, и вид крови меня тоже никогда не пугает. На раны я и теперь могу смотреть, так сказать, без лишних эмоций. Возможно, у меня и были склонности к медицине, может быть, даже к хирургической работе, однако это осталось непроверенным, потому что врачом я не стал.
Учительница химии считала меня сильным по своему предмету, даже посылала на олимпиады. Я стал победителем на районном и занял второе место на городском туре олимпиады по химии. Но интересна для меня была только неорганическая химия. Поэтому и заниматься этой наукой в полном её объёме мне в голову не приходило.
Учительница русского языка и литературы утверждала, что моё будущее должно быть связано с литературой.
– Это однозначно! У тебя такие сочинения, что преподаватели-филологи, которым я их показывала, сочли, что это написал студент 3-го курса филологического факультета. Работы и безошибочные, и интересные по мысли, особенно на свободные темы.
Да, сочинения типа «Образ Базарова из романа И.С. Тургенева “Отцы и дети”» мне были просто не интересны. Другое дело – написать об Андрее Болконском или Пьере Безухове – вот это занимало меня, это я мог написать. Особенно предпочитал свободные темы. Ну, например, я писал в девятом классе о Первом концерте для фортепьяно с оркестром П.И. Чайковского, описывал свои ощущения от этой музыки, о том, что я могу себе вообразить, слушая её. Музыка многозначна, и человек вправе представлять себе всё, что рисуют его фантазия и настроение.
Собственно, с музыкой был связан ещё один возможный вариант выбора профессии. Тем более что меня всегда тянуло к ней, я часто погружался в неё, слушая классические произведения по радио. А потом руки сами тянулись к баяну, я выходил в сени и, сидя на ступеньке, играл всё подряд – часа три-четыре. И не надоедало!
Мать давала свой житейский совет: поступай куда-нибудь, а музыка так при тебе и останется. И ведь как в воду глядела!
Правда, поступил я не «куда-нибудь», а, скорее, по мечте. Начитавшись научной фантастики, подцепил «богатое» слово программирование, которое магически на меня действовало. Я узнал, что на математическом факультете нашего педагогического института существует специальность «Математика и программирование», здесь и пришло решение, был найден ответ на вопрос «кем быть?». Тем более что математика была моим любимым учебным предметом,
Конечно, я не собирался быть учителем математики в школе, полагая, что это не моё, а вот стать программистом, за которыми будущее, – это моё!
Итак, окончив школу с серебряной медалью и сдав вступительный экзамен по математике на «5», я стал студентом ИГПИ.
Этот вуз славился не только тем, что в нём ранее преподавал будущий академик А.И. Мальцев. Была и ещё одна слава у этого института, причём народная. Ведь Иваново для нашей страны – не только родина 1-го Совета рабочих и крестьянских депутатов России, но ещё у него была одно немаловажное прозвание – ГОРОД НЕВЕСТ! Действительно, состав населения города был таков, что около 62% его жителей были представительницами хоть и слабого, но прекрасного пола, ибо Иваново было в стране центром текстильной промышленности. Мужчины же оказались волею судеб всего лишь «на подхвате». Тот, кто хочет лучше узнать, почему и как так получилось, может сделать это с помощью соответствующей исторической или справочной литературы, в том числе – в Интернете.
А я сразу обращусь к гендерному составу нашей учебной группы: только пятеро парней (впоследствии четверо), а остальные – девушки.
И всё-таки быть студентом – это здорово, это романтично! Преподаватели – кандидаты и доктора наук, даже и профессура небольшая была. И стипендия у студентов какая-никакая имеется – 28 рублей в месяц (позже – 45р.). Если ты ивановский и живёшь с родителями, жить можно. А у меня ведь ещё был кормилец-баян!
Моя «баянная привилегия» обнаружилась сразу же, в день нашего выезда «на картошку» в подшефный Сокольский район (ну, куда ж от него деться!). В день выезда нам во дворе вуза подали автобус «Кубань» до Кинешмы – а там, мол, на теплоходе до Сокольского. Эх, прокатиться весёлой компанией по Волге – да с гитарой – это ли не романтика!
Однако тут к двери нашего автобуса подошла незнакомая нам девушка и звонко крикнула:
– Эй, на барже! Есть тут Сметанин Николай? – с вещами на выход!
У меня сердце ёкнуло: неужели всё-таки не приняли?.. Но, оказывается, судьба приготовила мне не такой уж и страшный поворот.



