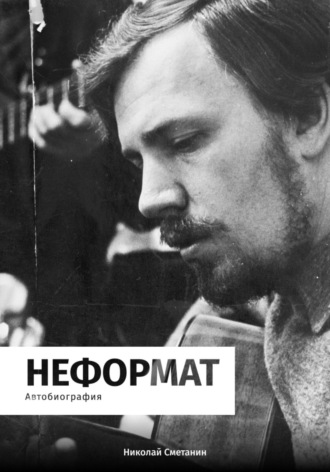
Полная версия
Неформат
– Меня зовут Нина, я из профкома института. Тебя, Коля, оставляют в агитбригаде: недельку порепетируете – и по нашему Сокольскому району ездить будете, концерты давать нашим студентам. Ты ведь на баяне и гитаре играешь – так в анкете сам написал. Это правда?
Я говорю: «Да, немного». А она: нам, мол, и немного сойдёт, у нас народ не капризный, не избалованный. Увидишь – здорово в агитбригаде будет, да и девчонкам на картошке-то веселей с агитбригадой. «Ну, девочки, попрощайтесь с Колей, только не рыдайте – скоро его в вашей деревне увидите».
Староста нашей группы, Лера Евстигнеева, притворно завыла: «Ой, Коленька, да на кого ж ты нас покидаешь! Кто норму-то нам делать будет?» Все захохотали…
Так и расстался я со своей учебной группой на целых два месяца. Сообщение об агитбригаде в Сокольском районе мне напомнило один жуткий вечерок в селе Гари год назад, но я эти воспоминания быстро отбросил: впереди была встреча и знакомство с девчонками и парнями из институтской агитбригады – это вам не механический завод. Но…Справлюсь ли? Там, говорят, из первокурсников-то пока нет никого, а вот баянист нужен позарез, да ещё с гитарой. Нина, сопровождавшая меня в профком, успокоила: «В агитбригаде баянист-то есть, Володя Комаров, второкурсник. Играет здорово, но у тебя же гитара! Целый оркестр будет! А сценки какие у нас! А танцы! А стихи! Всё Сокольское на уши поставим, а то ты чё-то приуныл – зря. Весь вуз тебя увидит!»
Но я был настроен скептически. Гитарист-то я пока никакой, полгода всего и играю на шестиструнке… До этого я три года подыгрывал старшему брату и его друзьям на семиструнке: модные тогда бардовские песни – Визбора, Высоцкого… Брат в агитбригаду свою гитару не даст, это само собой. А моя-то гитарка, купленная в универмаге за 7р. 50 коп. и переделанная на шестиструнку, строит неважно, правда, звучит громко, звонко. Для студента – в самый раз! В общем, сойдёт пока. Добавлю, что на шестиструнную гитару я перешел исключительно ради возможности играть песни «Битлз», и в первую очередь – мою любимую их песню «Can't Buy Me Love».
Скажу сразу, первую нашу агитбригаду в Сокольском я помню не очень хорошо. Вроде всё было неплохо, но я чересчур волновался и потому многих деталей сего похода не помню. Одно наверняка могу сказать: встречали нас везде отлично, кормили очень вкусно и обильно.
Костяк артистов агитбригады состоял из опытных, проверенных бойцов: это и Дима Введенский, и Володя Гришин, и Володя Комаров (математики, между прочим), и Володя Климов…
Ну, а я, только что явившийся «с корабля на бал», подыгрывал девчонкам и парням на баяне всё, что знал и, что самое ценное, перенимал опыт именно студенческих концертов (впереди их была целая тьма!). «Звёздами» этой программы я бы назвал дуэт сценических юмористов Володя Гришин – Дима Введенский. Представленные ими сценки и пантомимы шли под громовой хохот жизнерадостной студенческой публики! Великолепный наш тенор Володя Климов пел в красивом восточном, чувственном стиле, услаждая слух девушек-зрительниц: «…И всё же кто-то гонит коня – упрямо, ждать не хочет ни дня…». Аккомпанировал ему на баяне Володя Комаров (дуэт был спаянный, и я не осмеливался им мешать). Но зато и мы с Володькой Комаровым не ударили в грязь лицом: наш с ним дуэт «Прощай, любимый город» под два баяна трудящиеся студенты встретили на «ура»! А под гитару я пел только «По Смоленской дороге» Б. Окуджавы.
После концерта студенты (в основном, студентки, конечно) провожали нас скромными осенними цветочками, визгом и аплодисментами. Это был успех!..
В таком вот ключе прошли все наши 25 концертов, хотя случались и непредвиденные обстоятельства: в заключительном концерте у Володи Комарова в конце песни сорвался голос – но мы уже привыкли выручать друг друга – Володя Климов уверенно допел песню сольно. Красивая точка в концерте и в наших гастролях!
Родная вузовская газета «За педагогические кадры» отметила в своей заметке этот момент: «Торжество мастерства и взаимопомощи увенчало успех нашей агитбригады в Сокольском!»
PS. После школы мой брат Вова поступил на физический факультет пединститута. Он и там быстро оказался лидером, особенно по части студенческой самодеятельности. К сожалению, качество его игры на гитаре оказалось слабоватым для вузовского уровня. Естественно, он привлек к репетициям и выступлениям меня: и с гитарой, и с баяном. Так продолжалось три года, пока я не окончил школу и не поступил в тот же самый пединститут, но на факультет математики. Любопытно, что мой первый курс совпал с выпускным Вовиным курсом. И так получилось, что в том 1968-м году я выступал в «Студенческой весне» вместе и с математиками, и с физиками.
В те студенческие годы определилась и личная, а впоследствии и семейная жизнь Володи. Уже на первом курсе он познакомился с очаровательной девушкой с филфака, Светой Задоевой, и – влюбился. Прежде Вовина компания состояла исключительно из парней, теперь же в нее влились и девушки – Света и ее подруги, а также наша двоюродная сестра Лида. Вова по-прежнему держал меня к себе поближе, и мне их компания была очень интересна. Они по традиции ходили в походы, пели песни под гитару, но репертуар стал более лиричным…
Подозреваю, что именно тогда он и начал писать стихи…
Дважды мы встречали Новый год в лесу, недалеко от станции Строкино. В первый раз, накануне 31-го, выбрали подходящее место, утрамбовали ногами «танцплощадку», заготовили хворост и дрова для костра. Следующим вечером всей компанией мы отправились на приготовленное место праздновать Новый год. На санках везли провизию, ёлочные игрушки, патефон с пластинками, гитару и транзистор (слушать бой курантов). С погодой нам повезло: был лёгкий морозец, сияла луна. Первым делом зажгли костёр и стали дружно наряжать самую красивую, из окружающих нас, ёлку. Вова нарядился дедом Морозом (весьма символически). В общем, был настоящий новогодний праздник: дружный, шумный, с танцами, песнями и аттракционами. Вдохновившись таким удачно проведённым праздником, мы повторили его там же через год. Обретя, благодаря брату, такой бесценный опыт, я применил его позднее для своей институтской компании – с тем же восторгом, шумом и танцами. Жаль, патефона уже не было…
Но особенно часто я и вся Вовина компания любим вспоминать, как мы отмечали 50-летие Великого Октября. Вова заранее написал подробный сценарий, раздобыл настоящее ружье, к которому изолентой примотал «штык» – большой кухонный нож. Откуда-то раздобыли длинную шинель и старенькую, но настоящую папаху с красной лентой. Дело происходило в квартире Банщиковых. У входной двери стоял «часовой» (Вовка Куликов с нашей улицы). У остальных имелись заранее подготовленные «мандаты». Входя в квартиру, каждый из нас нанизывал на «штык» свой «мандат», и только после этого мог войти. Стол был сервирован на манер 17-ого года: в алюминиевых тарелках лежали крупно нарезанные куски чёрного хлеба, и стояли 3 или 4 бутылки водки, которые для натуральности были заранее откупорены и заткнуты свернутой газетой «Правда». На большой тарелке лежала гора отваренной картошки «в мундире», а в стакане была соль. Так как никого со сценарием заранее не знакомили, стали раздаваться удивлённые и даже недовольные реплики. Как потом оказалось, это была только первая часть вечера: «Разруха Гражданской войны».
Когда все расселись, Вова толкнул речь: «Товарищи, за нашу революцию!» Все встали и спели Интернационал. После чего началось застолье с песнями исключительно Гражданской войны («Вихри враждебные», «Смело, товарищи, в ногу» и т.д.). После этой части всем было предложено покинуть помещение на 15 минут. Через 15 минут все опять расселись по местам, и началась вторая часть: «Восстановление разрушенного хозяйства и НЭП». Стол был сервирован не в пример богаче, да и песни повеселее, про паровоз, например. Третья часть: «Великая Отечественная война» отличалась от первой части наличием на столе «американской» тушёнки и сгущёнки. Пели песни военного времени: «Катюша», «Тёмная ночь», «Смуглянка» и другие. В этой части заводили патефон и танцевали парами. Последние две части назывались «Восстановление разрушенного хозяйства» и «Наше время». Пели песни соответствующих времен, танцевали, в том числе твист. Не заметили, как пролетело 5 часов! Это было круто!!!
Летом, по окончании вуза в 1969-м году, Володя и Светлана поженились и уехали по распределению работать учителями в Красноярский край, в Елань. Там и родилась дочка Наташа. Мы переписывались все те годы, пока они работали в Сибири.
Глава
12
Vivat Akademia! Vivant Professores!
Как я уже писал, преподавательский состав нашего вуза был не только авторитетен, профессионален и уважаем, но и очень интересен нам, студентам, в чисто человеческом плане.
Начну с нашего декана, Евгения Александровича Халезова.
Как большинству из нас, студентов математического факультета, казалось, лучшего декана невозможно даже было придумать. Один мой вузовский друг, Игорь Ильинский, говорил про Евгения Александровича словами Лермонтова: «…слуга царю, отец солдатам». Это была высшая похвала в его устах, обычно скептических и даже саркастических.
Лекции и семинарские занятия Халезова по предмету «Высшая алгебра» я и до сих пор считаю образцом методики преподавания предмета: всё там было продумано, изложено, оформлено на доске идеальным образом. Будучи сам элегантным, аккуратным, подтянутым мужчиной (бывшим фронтовиком!), он в том же духе подавал и свой предмет. Не понять что-либо в его лекциях было, по-моему, просто невозможно: всё доходчиво, в среднем темпе, логично, наглядно, очень аккуратно и просто красиво. Он любил свой предмет и заражал этой любовью студентов. Редкий педагог, лекции которого наши студенты не «закалывали» – и не просто из-за того, что лекцию ведёт глава факультета -, а по причине красоты и понятности изложения материала, по симпатии к педагогу, по глубокому уважению к его личности и высокому профессионализму. У него был очень приятный для моего слуха вариант «волжского акцента»: небольшое, и не нарочитое выделение безударных гласных, особенно звука «о». В наших местах, как известно, этот диалект очень распространён, хотя уже тогда многие ивановцы старались искоренить фирменное «оканье», заменяя его московским диалектом, на котором вещало радио и телевидение Москвы.
Если у кого-то из нас возникали проблемы с учёбой, от внимания Евгения Александровича это не ускользало. Он никогда никого не «распекал», он вызывал студента к себе в деканат на приватную беседу, что-то подсказывал – и всё это не обидно, мудро, по-отечески. А вот насчёт крупных проблем разговор шёл уже более суровый, прямой, хотя и корректный. Неделикатности в общении со студентами он себе не позволял никогда. Мы все его любили и часто вспоминаем в разговорах между собой.
Что для меня особенно дорого, так это почти полное совпадение характеров и методов преподавания и воспитания у моей первой учительницы Веры Васильевны Галкиной в 37-й школе и у нашего декана в ИГПИ, Евгения Александровича Халезова. Мне очень повезло в этом. Огромное им спасибо.
Совершенно противоположной Халезову личностью и абсолютно иной манерой преподавания обладал наш не менее любимый преподаватель математического анализа – Григорий Наумович Золотарёв, колоритнейшая личность. Он глубоко знал свой предмет, но чересчур им увлекался на лекциях. Помнится, перед первым занятием по матанализу наши самые старательные студентки – Ира Яблокова, Лера Евстигнеева и другие наши
потенциальные отличницы – уселись в первом ряду, подобно буратинам, чтобы, не дай Бог, что-то упустить или не расслышать. Наиболее же спокойные и любящие поболтать на лекциях студентки сели ближе к центру аудитории. Мужская часть группы – все пятеро – по привычке расположились на последнем ряду, чтобы в случае скуки сыграть в «балду», «морской бой» (только на бесконечном пространстве – на плоскости, на развёртке цилиндра или тора – «математической баранки»). Ну, сейчас что-то начнётся…
Минут через пять после звонка на вторую пару занятий, когда студиозусы начали понемногу томиться, расслабляться и шуметь, в аудиторию буквально влетел легендарный, но пока ещё не знакомый нам Григорий Наумович Золотарёв – доцент кафедры математического анализа! Один академический час в вузе длится 50 минут. Отдаю должное деликатности, воспитанности и любви к науке нашим девушкам с первого ряда столов. А главное, они проявили самоотречение и удивительную увёртливость во время этого часа. Григорий Наумович обладал буквально бешеной энергетикой, неудержимым темпераментом и явным намерением сказать всё и сразу, причём обращался он даже не ко всей аудитории, а проявлял, так сказать, «индивидуальный подход к личности студента». Это я сейчас поясню отдельно.
Шокировал публику он на первых же секундах той незабываемой нашей первой с ним «очной ставки». Ураганно влетев в помещение, наш доцент скинул с себя пиджак и бросил его в направлении собственного стула. И хотя в целом он промахнулся, но краем своего новенького пиджака всё же зацепился за спинку стула, и пиджак этот, как дрессированный, чудом повис на самом его краю, провисев таким образом всю лекцию. Это был настоящий цирковой трюк – куда там товарищу Саахову с его фуражкой и самому Шурику с его иголкой! После этого с Золотарёва просто глаз не сводили. Вот как надо привлекать внимание к себе и к своему предмету в начале лекции!
Не обращая внимания на небольшой беспорядок в собственном туалете, Григорий Наумович одним прыжком подскочил к доске и наискось начертал там неразборчивыми буквами пару слов, причём пропуски он делал не только между словами, но и между буквами этих слов – просто по наитию. Чтобы мы не очень сомневались, в чём тут суть (а может, и фокус), он громогласно прочитал начертанное им на видавшей виды доске: «Математический анализ»!!!
«Ааааа! – вслух радостно и облегчённо отреагировала на эту «увертюру» наша самая продвинутая и не перегруженная излишней сдержанностью Ира Яблокова. – Так это же матанализ!»
Но Ира рано радовалась своей догадливости: к ней буквально метнулся доцент Г.Н.Золотарёв. Домчавшись до неё почти вплотную (жаль, стол их разделил-таки), он радостно возопил прямо ей в лицо: «Именно! Матанализ, и ничто иное!!! Так себе и запишите!». Мы записали нормальными буквами: повторить золотарёвскую клинопись было просто невозможно – для этого понадобился бы отдельный учебный предмет. Впрочем, «дешифровке» его надписей на доске мы научились на удивление быстро!
Кстати, о первой лекции. После перемены, на начало второго академического часа, в аудитории произошли существенные изменения в расположении студентов по столам: на первом ряду вообще никого не осталось, а геометрический рисунок оставшегося нашего поголовья при виде сверху изображал параболу с вершиной у дальней стенки. Внезапно (как говорила Лера Евстигнеева, «прыжком кенгуру») Григорий Наумович подскочить от доски уже ни к кому не мог – далековато прыгать. Тогда он подключил другой свой излюбленный метод донесения учебного материала непосредственно конкретному зазевавшемуся студенту. Григорий Наумович тихо-мирно шёл вдоль стены, солидно излагая свои мысли – и вдруг, после какой-то выкладки, он резко подскакивал к ближайшему студенту и, наклонившись к нему, громко вскрикивал: « Ведь так?? Ведь правильно??!!» Ошарашенный студент преданно смотрел Золотарёву в лицо, на котором в бешеном темпе вращались чёрные глаза-маслины, и истово поддакивал. Этого преподавателю было пока достаточно: все опять убедились, что спокойно поспать на лекции никому не удастся. Нам же, сидящим на последнем ряду, было относительно спокойно. Постепенно всё утряслось, каждый уже знал свой манёвр. «Привычка свыше нам дана…», как сказал великий русский поэт.
Года через два мы оказались вместе с Г.Н.Золотаревым на Рубском озере.
Там была у нашего института прекрасная база отдыха студентов и преподавателей. Григорий Наумович не раз и не два беседовал там со мной о моём будущем: «Коля, вот вы много уделяете времени художественной самодеятельности, у вас там всё прекрасно получается, я и сам всегда хожу на эти ваши выступления. Но ведь это не профессия, понимаете? Скажу прямо: я хотел бы видеть вас аспирантом на кафедре матанализа. Этот предмет – ваш, я вижу. Но и вы должны больше уделять ему внимания, изучать его шире и глубже. Вашим научным руководителем могу быть я. Вы немного запустили занятия, я знаю, но это не критично. Ещё два года учёбы в вузе, а за это время мы вам поможем как следует подготовиться к поступлению в аспирантуру. Как видите, программистов мы не имеем возможности готовить, но научная база у нас сильная. Ваша склонность к матанализу для меня очевидна, способности тоже. Вам не хватает только времени на то, чтобы им заниматься в полной мере. Подумайте об этом – это очень серьёзный момент в вашей жизни».
Те разговоры на идиллическом бережку Рубского озера прохладным летом 1971-го года я никогда не забывал. Спасибо вам, Григорий Наумович, и низкий поклон в небеса. Но сама судьба не дала мне тогда выбора…
Яркие воспоминания остались и о доценте кафедры аналитической геометрии – Ие Серегеевне Евстигнеевой – одного из немногих наших преподавателей, кого наряду с Е.А. Халезовым можно отнести к тем педагогам, какими мы их представляли при поступлении в вуз: компетентность, спокойствие, концентрация, методичность и серьёзность, доступность материала при всей его сложности.
Эти качества Ии Сергеевны соседствовали с незаурядным чувством юмора, которое, как известно, способно сгладить возникающие в ходе работы небольшие трения между педагогом и студентами. Впрочем, и просто пошутить к месту она тоже любила и умела. Поэтому студенты не только глубоко уважали Ию Сергеевну, но прислушивались к каждому её слову.
Почти у каждого из наших преподавателей была своя особенность, «фишка». В аналитической геометрии часто употребляются вспомогательные символы. Так вот, слово «штрих» она произносила по-немецки: «штрихь». Лично мне, изучавшему в школе немецкий язык, это казалось вполне нормальным и даже обычным. Прочие же студенты, не изучавшие немецкий, не могли к этому долго привыкнуть. Только через месяц никто уже на этот пустяк не обращал внимания – мол, «фишка» такая у педагога. Но вот – не забывается. Лично мне это казалось симпатичным.
Её дочь, Лера Евстигнеева, была нашей старостой – её все уважали и любили. Ну и, конечно, слушались, потому что она всегда говорила «по делу», пропуская всякие мелочи, и умела, как и её мама, подключить юмор в нужный момент. Похвастаюсь тем, что мы были с Лерой в настоящих дружеских отношениях – это, возможно, оттого, что я и она – мы читали почти одни и те же книги, оба были весёлыми и любили пошутить. А вот по части дисциплины наши взгляды не всегда совпадали. Тогда она отводила меня на перемене в сторонку и спокойно объясняла, над чем мне стоит подумать в своём поведении, особенно по части регулярных пропусков первой пары занятий. Я, действительно, ложился спать поздно: ночью самые интересные радиопередачи. К тому же я оказался 100%-ной «совой», а с природой бороться вдвойне трудно. Кое в чём Лера со мной согласилась и пошла на роскошный компромисс: 2\3 моих пропусков она не отмечает, а остальные – отмечает, если речь идёт о важных, сугубо математических предметах. Я же, со своей стороны, обязался изо всех сил помогать нашей группе в художественной самодеятельности и КВН. Обе стороны это устроило на все сто. И ещё я пообещал ей, как родной маме, учиться без троек, чтобы ей за меня лишний раз не заступаться. Это требовало от меня иногда нешуточных усилий, особенно по физкультуре.
А сейчас речь пойдёт о Галине Александровне Горевой. С виду спокойная и даже чуточку как бы стеснительная, но при этом по-честному строгая, она отлично преподавала тот же матанализ – он шёл у нас 3 курса, и потому преподаватели менялись. Галина Александровна была из той небольшой когорты преподавателей, кто в учебном семестре спрашивал и давал «на всю катушку», а на экзамене становился гораздо мягче. Здесь она уже не «строжничала», была справедлива и снисходительна к мелким ошибкам. На экзаменах Галины Александровны троечники часто получали четвёрки, а четвёрочники – пятёрки, причём заслуженные! Она была «наш Суворов»: тяжело в учении – легко в бою. Для молодого педагога такой метод – исключительная редкость! Мы очень уважали её и любили.
И опять же похвастаюсь: я и моя жена Ирина (учившаяся у неё же курсом позже) до сих пор поддерживаем с нею дружеские отношения. Пока два года назад Галина Александровна не уехала к дочери и внукам в США, она неизменно приходила на концерты «Меридиана». Для меня это было дорого. Теперь мы можем общаться только в социальных сетях.
Много было у нас интересных преподавателей – пожилых и молодых, сильных и не очень. Обо всех не напишешь, но и забыть никого из них невозможно. Спасибо вам, дорогие наши преподаватели – и живые, и ушедшие. Мы помним о вас, мы благодарны вам!
Глава 13
Хорошо всего хотеть!
Напомню, что, поступая в пединститут на отделение программирования, я собирался получить перспективную профессию программиста. На оргсобрании студентов и преподавателей в начале 1-ого курса нам было обещано, что вскоре наш вуз будет оснащён техникой, необходимой для обучения этой профессии. В течение 1-ого курса наряду с общематематической подготовкой мы изучали предметы, непосредственно относящиеся к программированию. Однако в начале 2-ого курса стало ясно, что никакой обещанной техники нет и не ожидается, поэтому на повестке дня оставалась только вторая заявленная специальность – учитель математики средней школы. Поскольку всё лето между 1 и 2-м курсом я работал с детьми в пионерском лагере на Рубском озере, и мне это нравилось, то теперь профессия учителя меня не пугала. Но и не особенно привлекала.
А между тем в вузе только что был создан факультет общественных профессий (ФОП). Здесь были кружки по интересам. Это и хор, и танцевальный коллектив, и шахматный кружок, и даже поэтический студенческий театр. И центр тяжести моих интересов естественным образом переместился в сторону ФОПа. Мне захотелось участвовать сразу везде. Разумеется, я не забывал и об учёбе, поскольку от её результатов зависела стипендия.
Теперь по порядку. Хор привлекал меня не только возможностью многоголосного пения, но и общением с многочисленными новыми друзьями. Именно здесь укрепилась моя дружба с Володей Комаровым, а через год произошло знакомство с Надей Финкель, в будущем – женой Володи. Я даже был шафером на их свадьбе. С тех пор Надя и Володя – мои ближайшие друзья и друзья моей семьи, думаю, до конца дней. О нашей дружбе можно написать роман. Но я приведу здесь один только случай.
Я уже был в «Меридиане», собирался на очередные гастроли – и тут позорнейшим образом забыл в продуктовом магазине концертную гитару, а вспомнил об этом только на другой день. Гитара бесследно пропала. По причине тогдашнего тотального дефицита купить другую гитару было просто невозможно. Что делать???
Случайно об этом стало известно Комаровым. Незадолго до этого они вернулись из Алжира после 4-летней работы и привезли оттуда фирменную профессиональную гитару. Через час Володя привёз её к нам домой и без лишних слов и эффектов просто подарил мне: «Тебе она нужнее…» Стоит ли говорить о том, что Володя и Надя наотрез отказались взять за эту потрясающую гитару какие-либо деньги.
Согласитесь, немного найдётся людей, способных на такой поступок, тем более в тогдашних условиях. К тому же, Володя сам – прекрасный гитарист. Кстати, где-то через полгода мне повезло купить в ГУМе немецкую шестиструнную гитару «Музима», чтобы подарить ее Володе. Обе гитары и сейчас в рабочем состоянии, мы с Володей играем на них, когда всей нашей дружеской компанией собираемся вместе.
Но вернемся рассказу о ФОПе. Хором руководила выпускница Ленинградского института культуры Марина Сергеевна Савченко. В заидеалогизированной стране она взяла за основу нашего репертуара мировую хоровую классику, сложную и невероятно красивую: И.С.Бах, С.Танеев, итальянские классические песни… Находясь внутри хора, мы получали неведомые ранее ощущения полёта и неземной красоты. Я помню, при исполнении «Miserere» итальянского композитора ХVII века Ф.Лотти у меня на глаза наворачивались слёзы – вот такую величественную и красивую музыку мы пели, не понимая по-латыни почти ничего… Это был большой и полный хор (от сопрано до басов). Слитность голосов была удивительной! Не случайно наш хор в те годы неизменно занимал в городской «Студенческой весне» первые места среди хоров.
Марина Сергеевна, зная, что у меня баритон, (а баритонов и без меня было достаточно) просила меня в хоре петь басовые партии, басов явно не хватало. Главный наш бас (кажется, его звали Володя С.), к сожалению, часто «съезжал» на основную мелодию. И по заданию дирижёра я пел, пусть и негромко, в самое Володино ухо, его басовую партию – а уж он выдавал её на все 100. И хор звучал насыщенно, музыкально и проникновенно. Да разве из такого коллектива уйдёшь!



