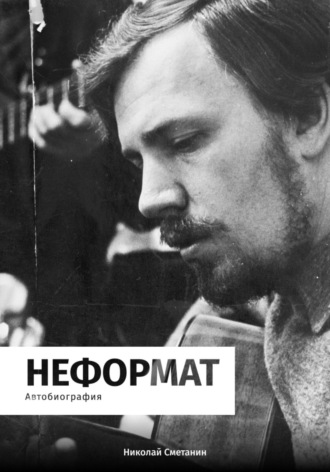
Полная версия
Неформат
Очень надеюсь, что эти мои слова не станут для вас пресловутой «дудкой крысолова», и что всё у нас с вами будет хорошо.
Глава 4
Школьные годы чудесные
В школу я прямо-таки мечтал пойти – очень хотел учиться – как Буратино! Однако на 1 сентября мне не было полных семи лет, всего недели не хватило (день рождения-то у меня 7 сентября!). Классы были переполнены учениками благодаря послевоенному демографическому взрыву, и школьная администрация под любым предлогом старалась снизить нагрузку на учителей. Меня не приняли, поэтому я пошел в школу почти с восьми лет, в 1958 году. Причем желание учиться сохранилось у меня на все школьные годы. В любые каникулы – и после пятого класса, и после девятого – я уже с июля начинал мечтать: «Скорей бы в школу!» «Скоро в школу, ой, как не хочется!» – сто раз я слышал от других ребят, но у меня такого никогда не возникало. Наоборот: «Скоро в школу! Ура, ура! Скорей бы в школу!»
Мне было интересно не только общение с друзьями, а именно сами уроки манили и даже снились. Возможно, сказывалось ещё и то, что я с раннего детства всегда был в коллективах и привык к этому. Как сейчас говорят, «он в социум был вписан с раннего детства». К тому же учёба давалась мне легко, я без всякого труда стал круглым отличником, а человека всегда манит к тому, что у него получается лучше других. Я не был «жмотом» – бескорыстно давал списывать всем желающим. Может, потому у меня и не было в классе никогда врагов…
Когда непогода на улице, никто не гуляет, я мог заскучать дома, а в школе всегда было весело, всегда интересно. Как в песенке: «Всегда у нас весело в классе. Да здравствует дружба! Ура!» Это песня того времени: «Ровесники, ровесницы, // Девчонки и мальчишки, // Одни поём мы песенки, // Одни читаем книжки…». Тогда по радио часто передавали песни о школе, например: «В первый погожий сентябрьский денёк // Робко входил я под школьные своды…» Там такие слова: «Разве они пролетят без следа? // Нет, не забудет никто никогда // Школьные годы…» Всегда в этом месте у меня подступали слезы. Даже музыкально это место гениально выстроено – такой подъем и как кульминация: «Нет, не забудет никто никогда…» Это так созвучно моей памяти о школе, что и по сей день слезы иногда набегают на глаза при этих словах. Действительно, я никогда не забывал школьные годы!
Мама меня собирала в первый класс: мне купили форму, это уж как полагается, и подстригли «под лысого». Тогда, в 58-м году, всех первоклассников так стригли, возможно, из-за педикулёза, который был распространён в военные и послевоенные годы. У нас рядом располагался военный Северный аэродром, мы часто видели там воинов, подстриженных под «ноль», это не считалось зазорным – все лысые бегают, ну и что же. Вероятно, такое требование было у директора и врача школы, заботившихся о здоровье детей. Мальчикам разрешили носить чёлку только в третьем классе: сам-то лысый, а впереди – чёлочка, вид странный такой получается, лошадиный какой-то. Очень смешно! Как там девчонки сражались за свои косы, я не знаю. Мальчишки постарше стриглись уже под бокс и полубокс, а позднее появилась и «молодёжная» стрижка…Конечно, некоторых пацанов кто-то из родителей постригал сам – специальной ручной машинкой.
Первого сентября мать отвела меня в школу. Дождя в тот день не было точно, но и солнышко не сияло, так – переменная облачность.
Здание школы №37 загибалось буквой «г», большое парадное крыльцо выходило во внутренний двор. Там-то нас и встретили учителя и, конечно, директор школы Иван Ильич Федченко, высокий, солидный мужчина лет под пятьдесят, спокойный, убедительный. Мне представлялось, таким и должен быть директор школы – внушительное впечатление производил Иван Ильич! Мы его не боялись, но уважали безоговорочно. В случае нарушения дисциплины кем-нибудь из нас директор говорил веским тоном, спокойно: «Ты еще об этом пожалеешь!» Его слова и интонации не были обидными, унизительными, поэтому чувства несправедливости не возникало, а его строгие внушения достигали цели – у ученика надолго пропадало желание мешать учителю вести урок и, тем более, пытаться сорвать его.
Моей первой учительницей была Вера Васильевна Галкина, дама уже в годах, но всегда опрятно одетая, причесанная, следила за собой. Она была спокойная, мудрая, никогда не повышала голоса, никого не унижала, если одёргивала. При этом она умела строго поставить на место даже Кольку Одинцова, моего соседа по парте, хотя остановить его было трудно, ну, если только минут на пять, а потом он забывался и снова потихоньку хулиганил или «клоунады» устраивал, а я от смеха просто под парту залезал…
Жила Вера Васильевна недалеко от школы, во Фрянькове. Четыре года она вела в нашем классе все предметы, кроме музыки, труда и физкультуры. Вера Васильевна очень интересно рассказывала на любую тему, хорошо знала материал, никогда не читала по учебнику. Конспекта перед ней тоже не помню: готовилась тщательно, видимо, и потом, много лет преподавала, уже практически все предметы освоила досконально.
Кроме глубоких знаний, Вера Васильевна обладала и умением преподавать. Бывают люди, отлично знающие предмет, но они не умеют передать эти знания, а ведь учитель – это переводчик между наукой и обыкновенным ребёнком, способный преподнести научные знания понятным для детей языком. Это трудно, не всем дано. Даже образованные и умные люди оказываются весьма посредственными учителями: у них каша во рту, они не умеют ни привлечь внимание и заинтересовать темой урока, ни следить за дисциплиной и толково объяснить, а это всё надо делать одновременно в классе, где сорок человек. Вера Васильевна это умела, у неё на уроках была отменная дисциплина. Я очень любил первую учительницу, как, думаю, и все ученики в классе. Вера Васильевна, преподавала как-то аккуратно, всё было понятно. Думаю, мне и всем ребятам, кто учился в нашем первом «В» 37-й школы, повезло, что именно она встретила нас в начале школьной жизни.
Я был образцовый ученик, в первом классе сидел, положа руку на руку, глядел в рот учительнице. Особенно мне нравились уроки математики, я чувствовал, что этот предмет – её «конёк».
Каждое лето перед школой покупали тетрадки, я их просто обожал! Открываешь тетрадку, а там – чистый листок в клеточку или в линеечку, погладить его хочется. В первых классах писали на еще более крупной разлиновке, где была обозначена не только нижняя строчка, но и линия сверху, чтобы буквы были ровными. Мне так нравилось само письмо! Писали простыми ручками, перо макали в чернильницу-непроливашку и выводили буквы и слова. Почерк сам по себе у меня был хороший, но рука – довольно шкодливая. То кляксу поставлю, то перо засорится, пальцами выдерну соринку, а рука-то испачкалась, но я этого не замечу, проведу по бумаге – вот и мазня. Это для меня самый главный бич был. Писать я любил, буквы и строчки у меня красиво получались, а учительница ставила мне четвёрки, хотя написано всё правильно, идеально, но ощущалась какая-то неряшливость. Конечно, обидно было – пустяки ведь. Но Вера Васильевна на этот счёт была другого мнения.
Мне учиться было интересно, но кроме того, было и чувство самоутверждения, потому что почти все предметы давались мне легко, буквально, даром. Например, у меня грамотность врождённая. Я даже правил не знал, а писал без ошибок.
Вот пока урок идёт, изучаем тему, я правила знал, а потом забыл, но пишу правильно, вплоть до тонких деталей орфографии и пунктуации. Это и есть врождённая грамотность. Смотрю, как мать писала – и запятые там, где надо, поставлены, хотя она писала не для диктанта, а просто не могла писать неправильно, рука не писала. Вот и у меня так же. Мать мне всегда говорила:
– Это не твоя заслуга, это Бог тебе дал, и ты этим пользуешься. Но надо учить правила, всё надо знать, это потом пригодится.
И к математике у меня хороший слух. Я и сейчас считаю, что нельзя требовать от всех учеников хорошей успеваемости по математике, к ней нужно иметь такой же слух, как к музыке, такую же наклонность. Пусть ребенок и вызубрит тему, но применить такие знания ему будет трудно, так как надо же еще вникнуть, понять логику, смысл действий. Это не всем дано. Я рано начал решать довольно трудные задачи, добровольно брал учебник следующего класса или через класс, задачку какую-нибудь выбирал. Если там было что-то мне совсем непонятное, какие-то незнакомые термины, то, конечно, я такие задачи просто не понимал и не мог решить. А если узнаваемое было, то решал задачи в шесть действий и в семь, довольно рано этому научился. Меня и на олимпиады посылали по многим предметам, так как я по ним хорошо успевал.
Коля Одинцов – это отдельная глава в моей школьной жизни!
Самое лучшее время у человека, когда он цветет, как дерево, радуется, обрастает друзьями. Это бывает в молодости. У кого-то друзья появляются рано, например, в школьные годы, у кого-то попозже – во время учебы в институте или с началом работы, дружба приходит в разное время. Я вот поздний оказался, у меня от школы друзей на всю жизнь не осталось, один только Колька Одинцов был бы другом. Я так жалел, что он ушёл, окончив восемь классов, мы виделись уже очень редко, наши дороги разошлись.
Его отец, дядя Коля, помню, был высокого роста. Или мне это казалось? Тогда ведь и деревья были большие… Я – Николай Николаевич, и друг мой – Николай Николаевич, только фамилии разные… Дядя Коля был вдовцом, один воспитывал сына. Жили они в частном доме на соседней улице, у них был великолепный сад, отец очень увлекался садоводством, хорошо разбирался во всевозможных прививках, знал, как правильно ухаживать за деревьями. Мичуринец!
У Кольки Одинцова в лице было что-то похожее на Буратино из нашего советского фильма: и вихор у него такой же, и шустрый он, жизнерадостный. Страшно шебутной оказался парень, озорной, весёлый, неуёмного темперамента. Каверзы он всегда устраивал с юмором, не злые, а именно такие прикольные, смешные – хоть стой, хоть падай.
Тогда у нас в школе были отличные, удобные 2-х местные парты. На верхней её панели были две продольные лунки для ручек и карандашей, а рядом – 2 круглых отверстия для чернильниц, т.к. все писали ручками со стальным пёрышком, макая это пёрышко в чернильницу-непроливашку. Так вот, Колька вынимал свою чернильницу, залезал под парту, и вдруг из круглой дырки вылезал мандарин на палочке, а на мандарине была нарисована такая смешная рожица (чаще пиратская), что удержаться от смеха – да ещё во время урока! – было просто невозможно. А Колька уже снова невозмутимо сидел рядом и преданно смотрел на доску. Я рядом покатывался со смеху, не мог сдержаться, а он сидит, мол, чего это он?! Меня выгоняли с уроков много раз, но я никогда не сердился на Кольку. Я ради этих его проделок, собственно, и сидел рядом с ним. Это же бесплатный цирк! Учительница не возражала против нашего соседства, ведь иначе Одинцов был бы запущенный двоечник, отцу не до него. Какие отцы-одиночки воспитатели? Тем более, такой шустряк, за ним было не уследить, даже когда он совсем малышом был.
Мы с Колькой сидели на второй парте с первого по восьмой класс. Он учился на тройки и двойки, списывал у меня постоянно (с кучей ошибок, конечно), а я не возражал, да ради Бога, хоть всё спиши. Если у меня оставалось время на контрольных работах, я у него ещё и ошибки проверял. Друг же.
Он был прирожденный клоун! Из Кольки вполне мог бы вырасти такой артист, как Юрий Никулин или Карандаш. Он устраивал всякие смешные приколы за партой, причем с совершенно спокойным и даже безучастным лицом. Клоун, прирожденный клоун. Например, чернильница-непроливашка стоит на парте и вдруг начинает шевелиться. Я подпрыгиваю от неожиданности, а он сидит, как ни в чем не бывало. Я показываю на чернильницу, и он будто искренне пугается, смотрит на чернильницу с ужасом: «Атас, крыса!», а сам её снизу пальцем двигает.
Всегда найдёт что-нибудь, чем меня развлечь, с ним даже скучный урок превращался в забавное приключение. Я за ним просто хвостом ходил. Он, вроде бы, и хулиганистый, мог и кнопку учительнице подложить, как тот самый Вовочка, но не по злобе. У него было колоссальное чувство юмора, как у профессионального клоуна: он мог строить на лице всевозможные гримасы, он непостижимым образом переплетал пальцы на руках, и получались какие-то фантастические существа. Все портреты знаменитых учёных, писателей, путешественников в его учебниках были разрисованы до полной неузнаваемости, и притом очень смешно!..
Мы с ним ходили вместе из школы, в одном районе Пустошь-Бора жили – я на 3-й Слободской улице, а он на 4-й. Однажды Колька предложил мне
«выгодное дельце»: повсюду поспели яблоки и груши. «Давай, говорит Колька, ночью потырим немного яблок. Есть отличный сад у Введенских!»
«Ты что – там же Дима Введенский живёт, звезда нашей школы!» – отвечаю с дрожью в голосе. А Колька: «Тем более. Должны же звёзды делиться с простым народом – со мной и с тобой, например». Я согласился – это было справедливо. Часов в 11 ночи мы с ним под покровом ночной темноты подошли к забору дома Введенских. Перемахнуть через ограду – легче лёгкого. Набиваем яблоками и грушами всё пространство за пазухами, и вдруг… Дверь в доме, выходящая в сад, открывается! В круге света я вижу …милиционера в форме… Нет, это девчонка, переодетая милиционером – но от этого не легче: мы метнулись к забору, перемахнули его, растеряв половину добычи, и побежали по домам! Дома я долго припоминал детали ночного происшествия. Девчонка была примерно моих лет, симпатичная. Она тоже, кажется, испугалась и убежала в дом, хлопнув дверью. Через много лет я узнал от знакомой по социальным сетям, Ани Введенской, что этой испугавшей нас девочкой была её мама. Бывают же такие совпадения!
Были у нас с Колькой Одинцовым и другие «подвиги» – удачные и не очень…
Уже в среднем звене меня часто ругала наша классная руководительница, Нина Ильинична Дубова, преподававшая у нас географию:
– Коля, ты мог бы учиться еще лучше, ты мешаешь себе и отвлекаешь Одинцова, а он слабый ученик.
– Я ему не мешаю, а помогаю.
– Ты ему помогаешь тем, что даёшь списывать? Это разве помощь?! Думаешь, он от этого чему-то научится? Если бы ты с ним после школы занимался, тогда да!
Но я тогда так понимал дружбу: Колька Одинцов мне друг, он сам решить или правильно написать не умеет, значит, надо ему помочь, дав списать. А заниматься с ним дополнительно мне было некогда, ведь я три раза в неделю ездил в музыкальную школу, в Воробьёво, а еще и погулять надо. В общем, свободное время было только в каникулы. И сам Колька, мягко говоря, не горел желанием заниматься со мной уроками – он лучше будет целый вечер на своей голубятне пропадать…
После 8-го класса Колька ушёл из школы. Окончив ремесленное училище, он начал работать слесарем на заводе «Ивтекмаш», кажется. Я это слышал от кого-то, но самого Кольку уже не видел с тех пор.
В школьные годы моя жизнь была насыщенной, наполненной событиями. В школе целыми днями мы были вместе с учениками нашего класса, знали всё про всех – кто есть кто. И драки бывали, и игры. Например, об стенку монетами, в орлянку или в стукана.
В стукана – это надо небольшим круглым плоским свинцовым битком стукнуть по столбику монет, уложенных на твёрдом грунте решками вверх. Монеты рассыпаются, и те из них, которые легли вверх орлами, – твои. А потом уже бьёшь по каждой решке в отдельности, переворачивая её на орла. Если перевернуть монету не удаётся – теряешь ход и т.д. Или кидаешь монету в стенку, потом другой пацан кидает, и, если ты дотянешься от монеты до монеты пальцами одной руки, то ты забираешь обе эти монеты.
А в орлянку вообще просто – подбрасывают монету и угадывают, какой стороной она упала, – орёл или решка. Если угадаешь, монета твоя, не угадаешь – денежку придется отдать. Похожая игра в трясучку: там две монеты надо положить между ладоней и трясти, а потом спрашивать: «Орёл или решка?» Открываешь ладони, если он угадывает оба орла, например, значит, забирает обе монетки.
В стукана об стенку играли только возле школы, поскольку все дома в округе были деревянные, монеты от стенок плохо отскакивали. А школа же кирпичная, в фундамент стукнешь, монета со звоном отскакивает – красота! Иногда проигрываешь, иногда выигрываешь, никто же не умел тогда жульничать – уж как повезёт или не повезёт. Нас шугали, конечно, ругали, но нам нравилось это занятие.
Играли на наши карманные деньги, которые нам давали на обеды в школе. Все экономили – кто на что, копили. Мне, например, когда я поступил в музыкальную школу, давали деньги на проезд в Воробьёво, куда добираться надо было с пересадкой. Так я экономил на автобусе: пешком доходил до Станционной остановки, а это же пять копеек. Дальше ехал на трамвае, заплатив три копейки, там далеко было. И возвращался, сойдя с трамвая, опять пешком – вот и получал целых десять копеек за один раз. Небольшие деньжата, а на что они? Вот на такие ребячьи радости или на мороженое.
Еще одной статьей расходования наших накоплений были брикетики с какао. Я обожал какао со сливками! Какао с молоком за восемь копеек тоже очень хорошее, но за двенадцать копеек какао со сливками – это что-то божественное! Такой брикетик, кстати, весьма мягкий, можно было сравнить только с эклером, который перепадал нам совсем редко. В голову никому из ребят не приходило, что этот брикетик надо растворять в стакане горячей воды, а потом пить какао, нет! Это посчитали бы кощунством! Мы его грызли, как шоколадку, хотя там сахар виден, но так вкусно. И жалко, что сейчас такие брикеты не производят, я бы купил какао со сливками по старой памяти и погрыз бы с удовольствием.
Помню, как идёшь на занятия в первый день четвертой четверти, а она начиналась 1 апреля, и уже, как правило, почти не было снега. На мелких лужах – хрустящие корочки льда после ночных заморозков, а на ногах не какая-то тяжелая зимняя обувь, а ботинки с калошами! Идти в них легко и весело: наступаешь на примёрзшую лужицу и хрустишь её тоненькой белёсой корочкой… Правда, иногда не рассчитаешь и в глубокую лужу сквозь лёд проваливаешься, а кругом мальчишки смеются, а я – вместе с ними. Придя в школу, калоши снимаешь в раздевалке и приходишь в класс в чистых ботинках.
В более глубоких весенних лужах и ручейках мы пускали кораблики. Сначала простые бумажные лодочки складывали, а потом уже строили, вырезали из дерева мачтовые кораблики. Мне нравилось вырезать. Попрошу брата, бывало, чтобы он наточил мне нож поострее, и вырезаю из толстого куска сушёной сосновой коры совершенно непотопляемые кораблики. Мачту ставили с парусом, а потом мчались к ручью, спускали свое творение на воду и смотрели – далеко ли оно поплывет! Среди снега выкапывали канальчики, смотрели, чтобы был непременно уклон, тогда вода по каналу потечет быстрее, а значит, быстрее помчится и кораблик. В неглубоких, но стремительных ручейках струи бились о стенки и переплетались в косичку, тогда надо было русло углубить, чтобы течение получилось довольно сильным и более ровным, тогда и кораблики поплывут быстрее. А еще делали запруду, накопив воду, спускали ее – тогда кораблики мчались ещё быстрее. Это было главное и поистине повальное увлечение малышни. Солнце отражается в ручьях, кораблики плывут – вот это ощущение апреля, золотое ощущение. Это совершенно незабываемо!
Конечно, хорошо помню 12 апреля 1961 года, первый полёт человека в космос.
В нашей школе радио было только в кабинете директора (в классы ещё не провели на тот момент), он первым услышал правительственное сообщение. Сразу же протрубили общий сбор в актовом зале, и директор сделал сообщение:
– Дорогие мои, я так рад и счастлив, что я дожил до этого дня и могу вам сообщить радостную новость. Впервые человек полетел в космос! И этим человеком стал наш советский лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин!
Мы все были в таком восторге! Не просто там хлопали в ладоши, а кричали:
– Ура! Ура, ура, ура! В космос полетел! В космос! Скоро все будем летать в космос! Куда хочешь!
Мы же ещё не изучали астрономию в 3-м классе, и нам казалось, если один человек полетел в космос, то и другие смогут. А в космосе ты выбирай – куда захочешь, туда и полетишь. Нам так представлялось это. Уж потом мы осознали, когда стали постарше, что освоение космоса – дело совсем не простое, всё очень сложно. Но в тот день был настоящий праздник, большая всеобщая радость, колоссальный подъём.
Рядом стояли первоклассники и наперебой спорили: «На Марсе-то живут марсиане, это понятно. А на Луне кто? Лунатики!!!» – и радостный хохот на весь зал. Это был миг нашего общего счастья!..
Потом по телевизору показывали встречу Гагарина на Красной площади. Идёт по ковровой дорожке человек, рапортует о том, что он сделал, показывали его лицо, открытую доброжелательную улыбку. По радио и по телевизору говорили: важно, мол, что наш парень сделал это! Никто не смог, даже идущие впереди нас Соединённые Штаты, которые мы не могли догнать по производству мяса и молока на душу населения, даже они не смогли запустить человека в космос, а мы это сделали.
Однако нас, детей, прежде всего, волновала романтическая сторона события, радость от того, что теперь мы все сможем летать в космос. Вот это самое главное, а не то, что мы кого-то там победили, кого-то опередили. Детям хотелось приключений, а не победы в какой-то там гонке. Я, конечно, не обратил внимания, что шнурок на правом ботинке космонавта развязался, как теперь это муссируют. Разве в шнурках было дело?!
Учитель пения Виктор (к сожалению, не помню его отчества и фамилии) был особенной личностью, в моем представлении – классическим музыкантом: он всегда был одет в чёрный костюм с галстуком-бабочкой. Волосы у него были волнистые и длинные, доходили до плеч, что было большой редкостью в то время. Наш учитель музыки, пожалуй, был похож на этакого богемного музыканта. Он играл на скрипке, так как рояля у нас в классе не было, на ней же аккомпанировал нам, когда мы пели обычные детские песни, которые он с нами разучивал: «У дороги чибис», «Бескозырка белая…», «То берёзка, то рябина»…
Да, это великолепная песня – «То берёзка, то рябина»! Учитель наиграет на скрипке – мелодия очень трогательная и красивая! Кому-то из детей эти уроки казались несерьёзными, они были не склонны к музыке, занимались, чем хотели, шалили. Они говорили, что этот учитель похож на Сверчка из мультфильма про Буратино – и правда, схожесть была! Мне же всегда было интересно его слушать, а скрипка в его руках просто пела! Я сидел на второй парте, слушал внимательно, стараясь вникнуть в каждое слово учителя, запомнить мелодию, с удовольствием пел.
Кроме того, учитель приносил проигрыватель на урок и включал для нас пластинки с хорошей оркестровой или фортепианной музыкой: «Вот послушайте, как красиво!» Я не могу вспомнить точно весь репертуар, но это была популярная классическая музыка, она привлекала наше внимание, многим нравилась. Мы слушали, например, «Полонез» Огинского, «На тройке» и «Баркароллу» из цикла «Времена года» Чайковского, «Песню Сольвейг» Грига, «Полёт шмеля» Римского-Корсакова, «Танец маленьких лебедей» Чайковского и много других произведений. Учитель нам немножко рассказывал о композиторах – особенно нас увлекал его рассказ о детстве «вундеркинда» Моцарта и о дьявольски виртуозной игре Паганини…
Он немного рассказывал и о самих произведениях, то есть, по сути дела, преподавал музыкальную литературу. Позднее я это понял, учась в музыкальной школе. Обычная задача учителя пения была только в том, чтобы выучивать с нами определенные песни, поэтому предмет и назывался «пение». Однако наш учитель мыслил шире, чем составители тогдашней учебной программы. Во время, которое оставалось от разучивания песен, он знакомил нас с классической музыкой, учил её слушать, терпеливо и доходчиво приобщал к музыкальной культуре. А те, кто петь не любили, тоже радовались, что можно просто послушать пластинки, и, например, рисовать что-нибудь в это время. Учитель никого не одёргивал: в классе тишина, дети слушают хорошую музыку и впитывают её, сами того не ведая…
Сначала я пел со всеми вместе, но как-то учитель сказал: «А вот ты, Коля, спой-ка этот куплет, как запевала, один, а припев уже весь класс подпоёт». Я встал и спел, мне очень понравилось это, я же ещё с детского сада и с домашних «застолий» привык солировать. Это я – всегда пожалуйста! Я спел, учителю понравилось. Пятёрка!
Однажды наш учитель музыки специально пришёл на родительское собрание и, как мама мне рассказывала, настоятельно советовал ей:
– Вашему сыну надо обязательно учиться в детской музыкальной школе, у него очень хороший слух, он точно поёт. Голос, может, и не сильный, но мальчик очень точно интонирует (т.е., «попадает в ноты») и ритм прекрасно чувствует, музыку запоминает хорошо, у него великолепная музыкальная память.
Он очень рекомендовал мне поступить в музыкальную школу. Мог ли я подумать тогда, что музыка станет главным делом моей жизни?!



