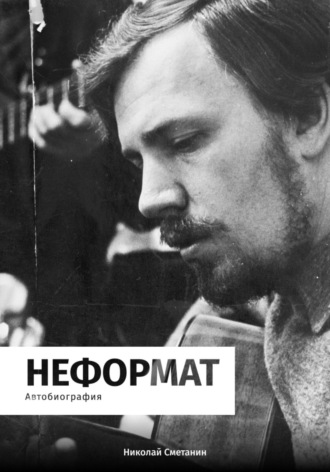
Полная версия
Неформат
Добавлю, что при хоре существовал мужской вокальный ансамбль. В нём пел и я. Руководила ансамблем сама Марина Сергеевна, а потому всё там было выстроено музыкально грамотно, но несколько консервативно: пелось под рояль – словом, всё – как положено по науке. Мне лично это было малоинтересно, хотелось большей оригинальности и свободы. Этот ансамбль просуществовал недолго, хотя он и принёс вузу лауреатские лавры.
В те годы всем в городе был хорошо известен поэтический театр под руководством Регины Гринберг. Вот и в нашем институте было решено создать свой поэтический театр. Режиссёра нашли в Москве. Вячеслав Коляда был молод, талантлив, амбициозен и сразу принялся за работу. В театр принимались только студенты, отвечающие его достаточно высоким требованиям. Первый спектакль, который он выбрал для постановки, назывался «Братская ГЭС» (по поэме Е. Евтушенко).
Сам я не считал себя способным участвовать в этом спектакле, но неожиданно мне предложили поработать осветителем сцены, так что и я оказался причастен к работе в этом театре. Роль моя была скромна, но необходима: следуя партитуре, в нужный момент включить или выключить тот или иной свет. Около семи месяцев длились репетиции. Коляда сразу набрал актёрский состав настолько профессионально, что впоследствии не пришлось заменять ни одного участника.
Премьера прошла на «ура»! В актовый зал набилось столько зрителей (с билетами и даже без оных), что они стояли и сидели везде, где только можно, даже на краю сцены. На следующий день несколько самых ярких исполнителей проснулись поистине знаменитыми: А.Савельев, С.Родина, Т.Абрамова, А.Часов, Н.Яковлева…Отныне в институте их узнавал чуть ли не каждый. Я не был в их числе, но был горд самим своим участием в этом, ставшем легендарным, спектакле. Зато через год в новом спектакле (по поэме С.Кирсанова) у меня была уже небольшая роль, как говорится, «со словами».
Вспоминаю сейчас те времена и испытываю искреннюю благодарность и к Марине Савченко, и к Вячеславу Коляде: ведь ни до, ни после мне не довелось ни петь в хоре, ни работать в театре.
В одной группе со мной учился Юра Охапкин из города Родники нашей области. Комнату он снимал недалеко от моего дома, в Пустошь-Боре. Поэтому из вуза мы часто возвращались вместе. Одним из его неоценимых качеств было то, что он всегда всё знал и помнил. В сущности, он стал мне не только другом, но и моим добровольным секретарём. Он-то и сообщил мне, что на ФОПе открывается шахматный кружок, и что руководить им будет Н. Овечкин, единственный в области настоящий мастер спорта по шахматам. И, конечно, мы с Юрой быстренько записались в этот кружок. Два раза в неделю по вечерам проходили занятия кружка. В шахматы я играл с детства, но исключительно на интуитивном уровне, а потому никакого разряда иметь не мог. Зато Юра в своих Родниках поучаствовал в нескольких турнирах и имел 3-ий разряд. Н.Овечкин систематизировал и развил наши шахматные познания, начиная от дебюта и кончая эндшпилем. На миттельшпиль времени просто не хватало: слишком необъятным был этот раздел. Но основные принципы разыгрывания миттельшпиля он нам все-таки втолковал. Постепенно я начал обыгрывать наших дворовых шахматистов, а потом и почти всех, кто подвернется под руку. Меня даже включили в состав сборной
Однажды на чемпионате по шахматам среди вузов наш капитан команды, перворазрядник Володя Чичерин, поставил меня, безразрядника, играть на первой доске против кандидата в мастера из энергоинститута. Секрет фокуса был в том, что мною пожертвовали ради блага команды: этому игроку любой из нашей команды всё равно проиграл бы, а я был наименее «ценной фигурой». По правилам, играть с сильнейшим игроком соперников должен был сильнейший игрок нашей команды, то есть Вова Чичерин. Так как я на чемпионате был дебютантом и «тёмной лошадкой», Володя объявил меня сильнейшим игроком сборной ИГПИ. Сам же он имел теперь право играть на любой доске и спокойно выигрывать.
Мой соперник напрягся и, когда на 11-ом ходу я неожиданно пожертвовал слона за пешку, он задумался минут на сорок. Дело в том, что этого хода нет ни в одном шахматном учебнике. Последствия моего хода были непредсказуемы как для него, так и для меня: скорее всего, я с треском должен был проиграть, но были там и некоторые «подводные камни» Просчитать позицию адекватно моему сопернику мешала моя объявленная репутация «сильнейшего игрока команды ИГПИ» – сопернику померещились какие-то страшные варианты, в которых я мог выиграть… На его часах оставалось всего минут пять, и он предложил мне ничью. С минуту подумав, я «милостиво» согласился. Друзья, это был классический блеф!
В этом чемпионате я сыграл еще несколько партий, но уже на четвёртой доске. В итоге, набрав приличное количество очков, я выполнил норматив 2-ого разряда.
В дальнейшем со мной не гнушались играть самые сильные игроки нашего вуза, среди которых были и аспиранты, и преподаватели. Это здорово подняло мою самооценку. А однажды, в декабре 1972 года, я стал чемпионом вуза по игре в блиц, обогнав пятерых перворазрядников, среди которых был даже Чичерин. С тех пор я больше не играл в турнирах: весной подошли выпускные экзамены…
Хотя чемпионом мира я не стал, шахматы и по сей день остались моей любовью. И мои дети, и внуки любят играть в шахматы. Я же стараюсь делать это при каждом удобном случае. Припоминаю такой курьёзный эпизод из моей жизни. На очередной Пленум Союза композиторов СССР трио «Меридиан» летело на самолете, и моим соседом оказался композитор В.Я. Шаинский. Он достал из саквояжа свои походные шахматы и предложил мне сыграть. Во время игры Владимир Яковлевич уронил на пол фигурку. Я предложил заменить её кусочком газеты, а в аэропорту купить новые шахматы. Однако он упорно продолжал ползать под ногами у пассажиров, пытаясь вернуть своё имущество. Смеялась половина самолета, в основном его коллеги – маститые композиторы. Мы с Володей Ситановым купили точно такие шахматы в аэропорту Владивостока и подарили их В.Я.Шаинскому. А стоили они, как сейчас помню, 80 копеек!
А вот о танцевальном кружке разговор особый.
Танцующих девушек в нашем институте всегда было много. А с юношами в преимущественно девичьем вузе была проблема, и это естественно. И только на факультете физвоспитания можно было найти двух–трёх парней с неплохой танцевальной подготовкой. Репетиции проводились на сцене актового зала. С 1969-го по 1973-й год руководил танцевальным кружком Евгений Тарасов. В те годы наиболее популярными были танцы народов мира. Хореография этих танцев была очень красива и сложна, содержала в себе довольно трудные, иногда просто профессиональные элементы, с которыми многие наши девушки знакомились впервые в жизни, но упорно тренировали их и на репетициях, и дома. Я во все глаза, играя на баяне, следил за нашими танцующими девушками: когда у них начинало получаться то, что раньше никак не выходило, – каким искренним счастьем загорались их глаза! Как-то так получилось, что основу коллектива составляли студентки математического факультета.
Надо сказать, что в вузах города танцевальных кружков такого уровня больше не было. Профком адекватно отнесся к этому обстоятельству и внёс свою лепту в развитие коллектива: к каждому новому танцу шились красивые костюмы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



