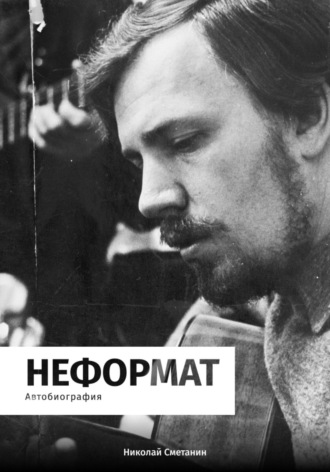
Полная версия
Неформат
Глава 5
В прекрасное Далёко я начинаю путь…
И вот мать решила, что с четвёртого класса я буду ходить в музыкальную школу, если, конечно, поступлю в неё. Тогда музыкальных школ было немного, поступить оказалось совсем непросто – конкурс среди желающих составлял в среднем 11-12 человек на место, по классу баяна – ещё больше.
Мать много рассказывала мне об отце: он очень хорошо пел и аккомпанировал себе на гармошке, а мечтал научиться играть на баяне, который он не мог купить по бедности, такие инструменты стоили дорого. Кто с фронта привёз, у того и были баяны, а так купить баян было трудно – дорого! Может быть, мне хотелось осуществить мечту моего отца?
Мамин брат, мой дядя Витя, бывал у нас каждую неделю, ходил пешком: от улицы Мельничной до нас недалеко. Приходил он даже не столько к нам, не к сестре Кате, нашей маме, сколько к своей маме, бабе Юле, приносил ей гостинцы, всё время сидел рядом. У нас-то, мальчишек, терпения не хватало тогда её выслушивать – у нас шаранки, друзья или кино, у нас «шило в заднице», а дядя Витя её выслушивал, сам рассказывал, что она спрашивала, даже денежек ей немножко давал.
Как-то он подозвал меня к себе и говорит:
– Коля, мне Катя сказала, что тебе рекомендовали поступить в детскую музыкальную школу, и тебе нужен баян. Я готов тебе помочь, но сначала ты должен поступить в эту школу. Я хочу быть уверенным, что инструмент, который стоит серьёзных денег, будет тебе нужен и полезен, а не будет валяться без дела. Значит, мы так договоримся: ты поступаешь в любую детскую музыкальную школу, и если поступишь, мы купим тебе баян.
Мама узнала, где конкурс поменьше по классу баяна, и мы с ней поехали на экзамен в детскую музыкальную школу №1, в Воробьёво. Многие дети пришли на экзамен с баянами, играли какие-то пьесы. Я думал, конечно, их-то примут, а я ни на чем не умел играть, только на расчёске. Поэтому был уверен, что шансов у меня никаких, но потом выяснилось, что играть ничего и не нужно. При поступлении проверяли музыкальный слух и память, чувство ритма и так далее – повтори мелодию голосом, прохлопай в ладоши ритм по памяти. Сказали, чтобы я отвернулся, две ноты какие-то взяли на пианино: «Сколько нот ты слышишь? Спой эти нотки», – и так далее.
Когда я вышел, у меня мать спросила:
– Ну, как там?
– Да не знаю я, как. То, что они меня просили, я всё делал, а правильно или нет, они не говорили, и я не могу сказать.
Мать поехала в музыкальную школу через неделю, когда там вывесили списки принятых детей, вернулась радостная:
– Ура! Колька, ты поступил! Третий в списке!
Я, помню, сильно удивился: ведь только похлопал, потопал, попел что-то. А там были ребята, которые играли на баяне, но их почему-то не приняли. Я не понимал, как произошло такое чудо, но был горд и очень рад.
Дядя Витя выполнил свое обещание: повёл нас с матерью в большой универмаг выбирать баян. А не догадались позвать кого-то, кто умел играть на баяне и мог посоветовать в выборе инструмента.
– Какой баян тебе нравится? – спросил дядя Витя.
– Вон тот! – показал я пальцем, потому что этот баян был зеленый, перламутровый, красивый очень. Однако он оказался не тульский, а кировского производства, немножко глуховат, но это я уж потом узнал. А так он мне очень понравился, я ведь выбирал инструмент по красоте.
– Ну, этот, значит этот. Ну-ка сыграй!
Нажал на кнопку, растянул меха – и всё, я же не умел играть. Говорю:
– Мне он очень нравится, красивый такой…
– Будешь учиться? Серьезно будешь учиться? – уточнил дядя Витя.
– Конечно, буду.
И баян мне купили!
Я учился пять лет в детской музыкальной школе. Моим педагогом по классу баяна был Юрий Германович Сорокин – хороший учитель, терпеливый, сдержанный. Придёт какой-то ученик в музыкальную школу, например, не выучив уроки, учитель, конечно, его поругает, но раз уж человек пришёл в школу, педагог позанимается – пусть хоть на уроке ученик поучит, а потом ещё и дома, чтобы сдвинуться с места.
– Главное – сдвинуться с места, потом самому понравится, – любил он повторять. – Вот увидишь, мы пройдём этот сложный период разучивания, а потом тебе самому понравится.
Помню, как много позже, работая над песней Таривердиева «Там, где сосны, где дом родной…», прозвучавшей в фильме «Большая руда», я спросил маэстро:
– А вот там, в конце, орган звучит?
– Нет, – ответил Микаэл Леонович, – там готово-выборный баян, но партию эту, верно, я писал для органа!
Про готово-выборный баян я уже знал, но никогда его не видел,
Вернусь ко времени учёбы в музыкальной школе. Там хорошо познакомиться с кем-то из ребят, друзей завести было некогда: приходишь, как правило, на занятие со своим педагогом – 45 минут. Потом какой-то общий урок, где одновременно собирались все ученики одного класса, хотя играли на разных инструментах – сольфеджио, например. Успеваешь только написать диктант, расскажут что-то новое по теории, споёшь по нотам незнакомую мелодию, получишь оценку – и свободен. Или урок по музыкальной литературе идёт – там тоже не предполагалось какого-то общения между учениками, сидим и слушаем биографию композитора, его музыку, педагог укажет какие-то её особенности и так далее.
Мы вроде знали друг друга-то по имени и фамилии, представляли, кто как учится, кто может хорошо написать диктант по сольфеджио или сыграть заданную пьесу, но дружба, как в школе, не складывалась. С Лёшей Земляным, например, мы сидели рядом на занятиях по сольфеджио. Причём, диктанты я писал быстро, почти не задумываясь, и всегда получал пятёрки – Лёша иногда у меня подсматривал, но нечасто. Нам хотелось вместе закончить урок и идти домой вместе, о чём-то говорить… Но занимались мы у разных педагогов по баяну, были неплохо знакомы, но более близкая дружба не возникала, мы просто не имели возможности хорошо узнать друг друга.
Бывали у нас также и отчётные концерты, где мы должны были показать, чему научились за какой-то период – за четверть, полугодие или за год, я сейчас не могу точно вспомнить наши отчетные периоды, давно это было, более полувека минуло, я же окончил музыкальную школу в 66-м. На эти концерты приглашали и родителей. Мы очень волновались, прямо-таки дрожали перед таким выступлением: надо было выйти одному на сцену и сыграть три пьесы. Казалось бы, что такого страшного, но волнение, помню, было сильным, ведь в зале сидели педагоги, родители, а ты выходишь на сцену один, кланяешься и сам объявляешь: «Черни. Этюд». Как в фильме «Приходите завтра»: «Исполняет Бурлакова Фрося!». И понеслось…
Первый этюд – на беглость пальцев. А второй – аккордами играть, – это отдельно, такое, собственно говоря, развивающее упражнение на баяне. А дальше надо сыграть третью вещь, ее выбирал сам ученик по собственному вкусу и по совету педагога, который что-то сам сыграет, возьмет пьесу прямо с листа, спросит: «Нравится? Будешь играть?» Но ему-то что не сыграть, он же консерваторию окончил, а как я сумею выучить и сыграть – вот в чем вопрос! Это произведение, как правило, оказывалось самым сложным технически, хотя оно мелодичное, мне самому нравится. Все ученики очень волновались, бывало, играешь-играешь, вдруг – бац! – запнулся, остановился на каком-то месте, оно сходу не получилось. Тогда лучше уж играть пьесу с начала, с этого же места всё равно не сыграешь, опять обязательно запнёшься, уже известное дело.
Я окончил музыкальную школу с отличием, как и некоторые другие ребята, проучившиеся пять лет вместе со мной. Толя Останин, с которым мы вместе поступали, тоже окончил с отличием, но на год раньше нас. Он позже продолжил обучение в консерватории. Витя Соболев очень хорошо играл на баяне, все пьесы выучивал чуть ли не моментально! А пальцы на руках у него были просто вдвое длиннее моих. Мне же редко удавалось сыграть серьёзную пьесу безошибочно. Зато у меня оказался абсолютный гармонический слух – об этом мне много позже сказала Александра Николаевна Пахмутова. Благодаря такому слуху и хорошей музыкальной памяти, мне было легко подбирать любые песни для художественной самодеятельности, причём в любой тональности.
PS: Я уже рассказывал, что не помню своего отца – он умер очень рано. Мать работала в три смены, и ей часто было не до нас. Поэтому в моей детской жизни рядом со мной всегда были моя бабушка и мой брат. Очень рано ему довелось стать старшим мужчиной в доме: чинить забор, пилить и колоть дрова, таскать воду с колодца, красить дом…Но вынужденная склонность к физическому труду постепенно стала для брата потребностью. Его друзья – парни с нашей улицы – часто помогали ему. А меня он отгонял, оберегая мои музыкальные пальцы от травм.
До определенного возраста Вовка не особо интересовался мной. Всё изменилось, когда я ему понадобился. К этому моменту я заканчивал 3-ий класс музыкальной школы, неплохо играл на баяне и рано научился подбирать на нем любые песни.
У Вовки образовалась своя компания, где он был лидером. Это было время, когда вся молодежь бредила песнями Высоцкого, Визбора, Галича…
Будучи человеком энергичным, предприимчивым и разбиравшимся в радиотехнике, Вова облазал все авиационные свалки Пустошь-Бора и Минеева, набрал кучу всевозможных запчастей и собрал из них работающий магнитофон. Как он раздобыл магнитофонные записи песен всех своих кумиров – это мне неизвестно. Гонял эти записи безбожно, и невольно мы выучили слова почти всех бардовских песен. На стене у нас испокон веков висела старая семиструнная гитара с бантом. Мама показала нам 4 главных гитарных аккорда на этой семиструнке: малая «звёздочка», большая «звёздочка», баррэ и обратную лесенку. Этого нам тогда за глаза хватало.
–Давай, Кольдяй, учи меня играть на шестиструнной гитаре, чтобы серьёзные песни играть можно было, – заявил Вовка однажды своему брату – шестикласснику, никогда этой гитары в руки не бравшему.
–Но я же не умею!
–Вот заодно и сам учиться будешь.
С Вовой – как в армии – не поспоришь. Пришлось учиться.
Так как пальцы мои для гитары были еще слабы, самому мне играть удавалось с трудом. Брат же ждать не хотел. Пришлось придумать свой особый способ обучения игре на нашей старенькой гитаре. Начали с песни «Люди идут по свету». Вова очень постарался и разборчиво написал на листке через строчку весь текст песни. А я в пропущенных строчках вставил номера аккордов. Сами же аккорды были зарисованы на отдельном листе и пронумерованы. Вовка старательно выучивал эти аккорды на гитаре. Это был самый долгий и мучительный этап обучения. Но наступил момент, когда я разрешил ему попробовать совместить игру и пение. Это не сразу, но тоже стало получаться. К концу 10-ого класса в его репертуаре было уже достаточно много песен.
Надо сказать, Вове не чуждо было некоторое пижонство. Едва научившись играть на гитаре, он решил придать ей европейский, битловский вид. Он выкрасил всю гитару черной масляной краской, а по краям бережно провёл белую полосу. Теперь она выглядела шикарно, но… звук потеряла, хотя и не совсем.
Глава 6
Девчонки, девчонки, ну в чём ваш секрет?..
Яркие эпизоды в школьной жизни во многом для меня связаны с девочками – они меня интересовали всегда, причём, только красивые. Такой уж я эстет уродился, хотя сам-то из себя довольно невидный. На других пацанов девочки заглядывались, а я на себе их внимания не ощущал. Потом мне говорили, мол, такая-то в тебя была влюблена, и эта в тебя была влюблена в школе, а я их не знал и даже не замечал. Мне интересно было самому выбирать тех, кто мне нравится, то есть исключительно очень красивых девочек.
Самая первая из них была Мила Страдомская (а может, Стародомская). Она училась в параллельном классе, в 1«Б», вместе с Лёней Банщиковым, моим двоюродным братом. Конечно, я ему ничего не говорил о своей влюблённости. Впервые я увидел Милу в актовом зале, там что-то происходило, праздник по поводу годовщины Октябрьской революции, возможно, нас в октябрята принимали, а она сидела совсем неподалёку, через три или четыре кресла. Лицо её ярко выделялось для меня среди всего пространства зала. Казалось, что вокруг него никого и ничего нет, только она, её смеющиеся глаза, её смех… Рядом с ней расположились, наверно, обожатели-пацаны, дёргавшие её за светлые волосы (у неё были такие очень милые хвостики), ухаживали в основном в такой форме, а я даже этого был лишён. Зато я мог смотреть на неё без всякого риска, что на меня тоже обратят внимание, иначе я просто сгорел бы от своей застенчивости, только издали мог наблюдать. Мила, конечно, была очаровательная девочка, и её имя ей удивительно подходило. Я даже знал, где она живёт: выходишь от школы налево, к 28-у магазину, напротив которого были два двухэтажных дома, как сейчас помню, вот в одном из этих домов она и жила. Первые два класса она училась в нашей школе, и я мог иногда её видеть, это было большое счастье.
А потом она исчезла. Как я ни старался, не мог ее найти и очень переживал. В конце 3-го класса я как-то пришёл к Банщиковым и увидел только что принесённую фотографию Лёнькиного класса. Поскольку я часто гулял в их дворе и знал ребят, что учились в его классе, мой интерес не был подозрительным. Разглядывая фотографии, я собрался с духом и спросил нарочито небрежным тоном, как бы невзначай: «А вот у вас во втором классе девчонка симпатичная была, её почему-то нет на этой фотографии». «Милка, что ли? А они давно переехали», – так же небрежно сказал Лёнька и отмахнулся. Всё, переехали, значит, всё…
А влюбленность моя ещё долго не проходила, я всё еще надеялся, что Мила как-то появится, вернётся, года два еще поджидал… Не появилась. Когда я ходил в музыкальную школу в Воробьёво, всё думал, что, может быть, прохожу где-то неподалёку от её дома, вдруг встречу её! Кто знает? Я не знал. Ещё несколько лет Мила мне снилась, как бы не желая уходить из моей жизни.
Много позже, уже учась в институте, я увидел её однажды. Праздновали чью-то комсомольскую свадьбу в институтской столовой, а я туда ненадолго приходил поиграть на баяне. Мила была там, я её сразу же узнал. Ну, узнал и узнал… Убедился, что она жива и здорова, всё так же красива, весела – и слава Богу. И жизнь продолжалась дальше. Но в моей памяти она так и осталась первой любовью, очень светлым воспоминанием.
Хочу добавить, что встреча с Милой в моей жизни задала мне чувственный и эстетический камертон девичьей – и вообще, женской – красоты в этом мире. И, хотя влюблялся я довольно часто, но скоро понимал, что это милое, волнующее чувство – всего лишь влюблённость, увлечение на 3-4 месяца или недели, которое остывает, не закрепляясь в сердце…
В книге восточного автора я когда-то прочитал, что все мы, вероятно, уже встречали эти же самые образы в одной из предыдущих жизней, и один из таких образов стал там твоей настоящей любовью, с которой ты прожил долго и счастливо и, конечно, умер в один с ней день! А в этой, нынешней жизни (твоей третьей или девятой?) ты неосознанно отыскиваешь ту самую девочку, девушку, женщину, надеясь встретить и сразу узнать.
Группа «Корни» исполняет песню на эту тему. Там в припеве они поют, как бы отвечая на вопрос: «Как в огромной массе девушек найти ту, единственную, которая суждена тебе свыше, суждена раз и навсегда?»… Ответ они дают такой: «Ты узнаешь её из тысячи – по словам, по глазам, по голосу. Её образ на сердце высечен ароматами гладиолусов…».
Здесь, замечу, что обычно считается, будто бы гладиолусы не имеют ярко выраженного аромата. Но в каталогах цветов указан, например, гладиолус сорта Lucky Star, имеющий сильный и приятный запах, так что не стоит однозначно обвинять автора стихов за мнимый поэтический ляп. Возможно, на данный момент цветоводами выведены и другие ароматные сорта гладиолусов.
То есть образ истинной твоей любви уже «высечен» в твоём сердце с самого рождения – надо только не прозевать, узнать, уловить её присутствие именно здесь и именно сейчас. И уже не сомневаться: ты нашёл ЕЁ, это – ОНА! И не смотри больше по сторонам, иначе она мелькнёт и растает в толпе… А тебе останется снова ожидать ЕЁ появления или довольствоваться хоть сколько-нибудь похожим образом.
Моя первая любовь, сама не зная того (да и меня-то самого не зная), явилась мне слишком рано, когда я искренне думал, что она бывает только в книжках или в кино. Но когда мне выдали пионерский значок с девизом «Будь готов!», я уже знал, о чём эти слова, – о том, например, что на свете есть истинная любовь, и к её появлению ты должен быть готов в любой момент твоей жизни. Только не пытайся ловить её руками – выйдет лишь хлопОк, улови её глазами и сердцем, а там – как судьба сложится…
Позже я убедился, что Создатель милостив к человеку: ему даётся ещё одна попытка найти свою судьбу (не из третьей, так из какой-то иной жизни?). Разумеется, если ты это чем-то заслужил, как я думаю. Такой шанс через много лет был предоставлен и мне. Об этом я расскажу позже.
Глава 7
И вообще, ученье – это свет!
Даже в начальных классах любимым предметом у меня была математика. Хотя надо признать, я любил практически все предметы. Я не любил историю, потому что там надо было читать, учить, запоминать даты. История древнего мира интересна, средние века, новое время – тоже ещё интересно. Дальше шел 19-й век – декабристы, разночинцы, ещё ничего… А уж как дело подошло к революции, 20 век, съезды – это кошмар был, так нудно, но всё равно приходилось учить.
Ещё я не любил органическую химию. Почему? Там красивые опыты, а вот теоретическая часть – это же одно и то же! В бесконечных формулах используется всего пять-шесть химических элементов, которые тасуются в разных вариациях в бензольные кольца и тому подобную муру. Такая скука! Полимеры – это, вообще, ужас какой-то, запоминать это всё… А вот неорганическую химию я обожал, особенно опыты. В химическом кабинете были хорошие приборы, много реактивов, администрация школы заботилась о техническом оснащении лабораторий. Химию у нас преподавала Нина Ивановна Давыдова, ставившая все эти волшебные опыты с амальгамой, с соединениями калия и всякие другие. Здорово!
Да, был и ещё один нелюбимый предмет – физкультура. На лыжах я очень любил кататься, довольно быстро бегал. А вот прыжки, беготня, всякие нормативы – скучно. Ещё мы гранату и мяч кидали, здесь самое основное – это бросание мяча на дальность, обыкновенного теннисного мячика, такого жёлтенького. Я с этим справлялся. А вот гимнастика… Школьный спортивный зал, гимнастические снаряды – всё у нас содержали в хорошем состоянии. Но я не был создан для этого «блаженства» – для гимнастики – у меня неважнецки получалось, кроме акробатики, может быть, для неё я был достаточно гибкий и ловкий. А вот на перекладине, брусьях – это не мой конёк, как говорится, не моя стезя, Бог мне этого не дал. А всё остальное… Ничего такого особенного, всё как у всех.
Внизу, на первом этаже школьного здания находились столярная и слесарная мастерские. Причём столярная мастерская была оборудована отдельно от слесарной, обе – оснащены просто отлично, потому что у нас шефом был механический завод, который передал школе полное оснащение слесарной мастерской, всё устроил так, как надо, по уму. Выпускники нашей школы, не думавшие о продолжении образования, могли, минуя ремесленное училище (так назывались тогда нынешние технические лицеи и колледжи), могли сразу устроиться на завод слесарем 1-2-го разряда или учеником. Мальчишки уже имели представление о простейших станках, могли сами выполнять несложные операции. В школе, конечно, только учитель труда запускал станки (техника безопасности!), чтобы, не дай Бог, кто-то палец не сунул в работающие механизмы. С этим шутки плохи – токарные, слесарные станки для обработки металла требуют особого внимания. С деревом-то там всё-таки проще, не так опасно, хотя молотком по пальцам многим попадало.
Мне очень нравились уроки труда, но у меня мало что получалось, меня Бог обделил и в этом плане. Я умом знал, что и как надо делать: надо измерить тщательно (семь раз измерь, один раз отрежь!), аккуратно приладить деталь для обработки, но… Мне, наверно, не хватало то ли терпения, то ли ловкости рук (как говорится, руки не к тому месту пришиты). Ещё с заданиями по столярному делу как-то справлялся, а слесарное … Не получалось все эти детали вытачивать. Вроде с виду всё нормально, а как сдаёшь учителю, он померяет своим штангенциркулем, скажет: «Да…. Ну, четвёрочку-то можно поставить». Это он натягивал мне четвёрку-то. Я и сам видел, что деталь у меня получилась болезная какая-то. Колька Одинцов сдаёт деталь – у него она блестит чинно-благородно. Он рукастый, у него свой талант. Уж не знаю, как он его употребил, но на трудах у него всё получалось отлично. Колька и мне, кстати, помогал: он уже всё сделает и мою деталь подправит, что успеет. «Чего ж ты, – говорит, – здесь напортачил? Надо бы новую заготовку брать, сначала начинать, ты уже запорол эту заготовку, здесь уже лишку выточил, уже не вернёшь…» Что можно было сделать, он мне, конечно, поправлял, а уж что нельзя, так оно и оставалось. Я на труды ходил с удовольствием, в принципе, там всё интересно было, но успехов я там не имел. По труду у меня была трудовая четвёрка, я старался. То есть учитель видел, что я не сачковал, видел, что пыхтел, но вот… не получалось как-то. Пятёрку мне удавалось получить крайне редко, и я очень радовался ей, даже больше, чем пятёркам по математике, потому что она стоила для меня гораздо дороже. В математике просто берёшь и всё решаешь. Задачу ещё только диктуют, а я уже знаю заранее, как её решать, там же не надо ничего выпиливать или вытачивать, только пиши. А на уроке труда надо ручонками работать. Мало ли что ты знаешь умом, как надо делать, а ты сам сделай – руками! Труды мне давались с трудом, прямо скажем. Именно тогда я понял, что и к труду надо иметь талант!
В старших классах у нас появился завуч Марк Зиновьевич Давыдов. То есть он и раньше был в школе, просто он нас не учил. Когда же он стал преподавать у нас физику, мы узнали его ближе и полюбили. Об этом учителе я хочу рассказать подробнее.
Марк Зиновьевич и его жена Нина Ивановна, преподававшая у нас химию, учились в Москве, окончили педагогический институт. Оба они были широко эрудированными людьми, особенно Марк Зиновьевич. Нину Ивановну я знал хуже, после уроков она сразу уходила домой, у нее не было классного руководства. Она отвечала за кабинет химии и очень за ним следила (за сложной аппаратурой и химическими реактивами), и наш кабинет химии был одним из лучших в городе.
Марк Зиновьевич работал завучем, тоже не имел классного руководства, но кроме уроков вёл ещё физический кружок. А самое главное – он был настоящий заводила, любил внеклассную работу. После уроков Марк Зиновьевич азартно играл с нами в волейбол – как в спортзале, так и во дворе школы, активно «поднимал» нашу самодеятельность.
Кроме того, Марк Зиновьевич глубоко знал и любил литературу и русский язык. Как-то он решил проверить наши знания по русскому языку с помощью дореволюционного диктанта, где использованы слова чеховского и даже более раннего времени. Он предложил:
–До конца урока остаётся пятнадцать минут. Всем, кто хочет получить пятёрку по физике, предлагаю написать диктант из одного предложения. Тому, кто допустит меньше пяти ошибок, я поставлю пятёрку в журнал. Кто не хочет участвовать, не участвуйте, можете делать своё домашнее задание, только никому не мешайте. Итак, кто хочет получить пятёрку, приготовьте листочек, напишите свою фамилию и имя.
Кто же не хочет получить пятёрку по физике за одно предложение?! И сразу – лес рук, все подняли руки, вплоть до двоечников. А чего? Он же не угрожал, что тем, кто сделает больше пяти ошибок, поставят двойку по физике. То есть ты участвуешь в соревновании на пятёрку, и больше ты ничем не рискуешь. Написать одно предложение – и пятёрка по физике! Даже можно допустить четыре ошибки и все равно получить пятёрку. Кто не согласится? Конечно, все согласились, все, как один, подняли руки.
–Все готовы? – продолжил Марк Зиновьевич. – Ну вот, пишите… Оценивать буду не только орфографические ошибки, но и пунктуационные тоже по нашим нынешним правилам, которые вы все, по идее, как девятиклассники, должны знать, уже русский язык, в общем, пройден, литературой занимаетесь, сочинения пишете.
И он, заложивши руки за спину, конечно, прямо по памяти, диктует, причём говорит медленно, как положено, чтобы мы успели подумать:
–На колоссальной дощатой террасе, близ конопляника, мачеха подьячего, веснушчатая Агриппина Саввична, потчевала винегретом коллежского асессора Фаддея Аполлоновича. Всё! Сдавайте листочки, кто написал.
Ну, я писал, не задумываясь, и сдал листок, как и все. Наши девчонки-зубрилки учились хорошо, но они всё по стандарту добросовестно учили, а в этом диктанте почти не было стандарта. Тут надо было просто знать, как это пишется, надо просто много читать и видеть глазами эти слова, здесь никакие правила тебе не помогут. «Аполлоновича…» почти все написали наоборот – два «п» и одно «л». А у меня на печатные или на написанные слова зрительная память хорошая, поэтому я, даже не зная правила, так напишу какое-либо слово, как прочитал его (тогда книгам и газетам можно было доверять). Ну, повезло. У меня и без этого стояли в журнале пятёрки по физике, эта-то мне и не особо нужна была, но любопытно же. Всё-таки диктанты я в основном писал на пятёрки, редко когда четвёрку получал. Вот Марк Зиновьевич пролистал наши листочки, пометил что-то в них и говорит:



