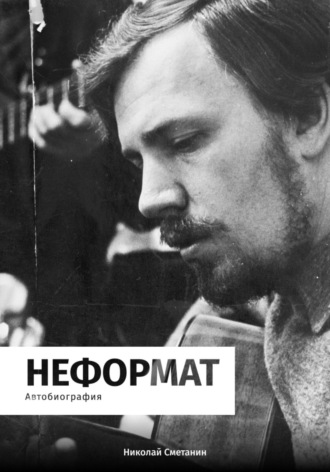
Полная версия
Неформат
Юля была неграмотная, умела только расписываться и хорошо считать. Как-то ходила гулять «в город» – всё же молодая девчонка – там и познакомилась с Сашей из Дьякова. Ей он, конечно, никаких листовок не давал, она прочитать всё равно не могла, однако через Сашу дочка мельника прониклась революционными идеями. Всё, что тогда писали в прокламациях, было правдой. В детстве Юля видела, как тяжело трудился её отец, она хорошо знала, что в пять утра весь дом поднимался, все работали, «пахали» с раннего утра и до ночи. Хотя мельник формально считался мелкой буржуазией, и большой их дом был под железной крышей, но на самом деле там все «вкалывали» – от мужиков до последней девчонки, все трудились, не было ни одного лежебоки. Даром кормить никто никого не будет. Как работаем, так и живем, как говорится, «как потопаешь, так и полопаешь». А уж что говорить о крестьянах и фабричных работниках…
Юлия Васильевна, когда познакомилась с будущим мужем, тоже стала распространять листовки, хотя не могла прочесть, что там написано. Но она Саше свято верила, просто в рот ему смотрела, ведь он был старше её на четыре года – ей шестнадцать лет, а ему уже двадцать! Он взрослый парень, знает, что говорит. Александр в начале ХХ века вступил в партию большевиков, а вскоре они поженились. Невесте было всего 17 лет, но тогда возраст никто не спрашивал – женятся и женятся. Обвенчались, как положено, в церкви. Я спрашивал:
– А как же дед в церковь-то пошёл? Коммунист ведь?
– Ну, и что? Надо было обряд-то пройти, ничего не поделаешь, венчались, а то дети были бы незаконнорожденными. Да я и сама не больно в Бога-то верила, не говоря уж о Саше, но и венчались, и детей-то всех в церкви крестили, – отвечала бабушка.
А по-другому тогда и не женились, никаких ЗАГСов не существовало. Понятие гражданского брака тогда было чисто эмоциональным. Так люди, жившие семьёй без венчания (по сути, сожительствовавшие), называли свой союз – «для солидности». А они венчались – Юлия Васильевна и Александр Фёдорович Ноговицыны, всё по закону того времени. Совсем ведь юные были по нынешним представлениям. Тогда же это было «в аккурат», как она говорила.
Кстати, деревня Дьяково была наводнена Ноговицыными, но из них половина оказалась Наговицыных, а половина – Ноговицыных, хотя они все родня при этом. Чем это вызвано? Я в этой деревне жил как-то на каникулах. Спрашиваю:
– Мам, а почему тут есть Наговицыны и Ноговицыны?
– Это неважно, – говорит, – мы все тут родня. А это просто дьячок в церкви – как записал на слух, так и осталось на всю жизнь.
Спросит: «Как твоя фамилия?» «Наговицына». «А как: На- или Но-?» «Наверно, Наговицына». Малограмотные были, кто как скажет. Так вот, дед был Ноговицын, а его родная сестра Мария – Наговицына, как и некоторые другие родственники.
Я спрашивал у бабушки Юли:
– А где вы с мужем жили-то?
– А жили в Дьякове, у него. Отец-то меня, самовольницу, и знать не хотел – против его воли замуж-то выходила, бесприданницей. И наследства мне было не видать…
Им в родительском доме Александра выделили угол, вот там и жили семьей. В 1903 году у них первая дочка родилась, Елена, а в 1923-м – последняя дочка, Катя, моя мама. Всего у дедушки и бабушки было шесть детей – три сына и три дочери. Все три сына воевали, двое из них погибли.
Мой дядя Петя, Пётр Александрович Ноговицын, был комбатом, погиб на территории Польши в 1945 году, в самом конце войны. Я его никогда не видел. Мать о нем очень тепло рассказывала. Его дочь, моя двоюродная сестра Неля, после войны жила с нами, училась в Иванове.
Еще один мой дядя – Володя – погиб рядовым в самом начале войны, в 41-м. Только ушёл и буквально через два месяца бабе Юле, его матери, прислали похоронку: «Ваш сын погиб…». Как мать говорила: «Он уходил из Иванова, потом в котёл попал», т.е. в окружение. Вот всё, что они знали, потому что Володя успел написать за время службы только два письма, и больше ничего не было. Незадолго до войны он женился, но они с женой уже успели разойтись. Ну, это уже дело житейское. А детей у него не было. Где он похоронен – неизвестно. В братской могиле, наверное…
Третий брат моей мамы, Виталий Александрович, тоже воевал и остался жив, слава Богу, дожил до 95 лет. Дядя Витя служил на Дальнем Востоке. Поехал, куда послали – военный есть военный – а он был тогда майором авиации. Войну закончил начальником лётной школы, в звании полковника.
После войны он ещё служил там же лет пять, наверное, а потом вернулся сюда и уже служил здесь, в военном управлении, при штабе каком-то, точнее я не могу сказать. Потом вышел на пенсию. У него было двое детей, жизнь протекала нормально. Кстати, дядя Витя ездил в 70-м году специально в Польшу и нашел могилу брата, только я забыл, как город называется (Вроцлав, кажется). Есть фотография, где дядя Витя стоит возле могилы, отдельной, не братской, а на табличке написано: «Капитан Ноговицын Петр Александрович», и годы жизни обозначены.
Дядя Витя и мне помог, да ещё как! Но об этом речь пойдёт в одной из следующих глав.
А Елена, самая старшая, была дояркой в колхозе. Во время войны её боднула корова в бок, а, спустя много лет, у неё в месте травмы образовалась злокачественная опухоль. В нашем доме, куда её вскоре перевезли, тётя Лена и умерла в ноябре 57-го.
Я хорошо помню, как её хоронили, как приехали присланные из деревни дрожки, запряжённые лошадью. Мы с двоюродной сестрой Лидой стояли в сторонке и беззаботно болтали о своём. В это время духовой оркестр грянул похоронный марш Шопена, и со мною произошло что-то необъяснимое: из моих глаз сами собой брызнули слёзы…
Меня долго не могли успокоить. Лидка испугалась, что со мной что-то случилось, а я не мог ничего сказать, меня трясло. Потом вбежал в дом, а следом за мной примчалась перепуганная мама. Убедившись, что я жив и здоров, мать спросила у Лидки:
– Что случилось?
– Я не знаю, – ответила сестра.– Музыка заиграла, и он сразу заревел в три ручья.
Мама успокоилась, обняла меня и сказала:
– Экий ты чувствительный.
Валя, мать Лидки, средняя дочь Александра и Юлии, вышла замуж в 45-м. И как интересно это получилось!
Во время войны во многих ивановских школах были оборудованы эвакогоспитали для раненных на фронтах Великой Отечественной. В одном из таких госпиталей работала Валентина, а дядя Тимофей, её будущий муж, лечился после ампутации ноги как раз в том же госпитале. Он там последние месяцы перед выпиской лежал, а потом должен был поехать на Алтай, откуда был родом. Он был на костылях, к нему полагалось приставить медсестру, чтобы она проводила его до самого дома.
Командировку выписали Валентине. А он ей уже нравился, Тимофей-то. Он красивый, высокий мужчина был в молодости, только ноги нет. Но тогда этому никто не удивлялся, многие фронтовики стали инвалидами на войне, жили без ног и без рук, а у него всего одной ноги не было, он еще частично трудоспособным человеком считался по тем временам.
Бабушка рассказывала, что Тимофей женился ещё до войны, но жена у него была неграмотная, писем не писала, он ничего не знал о ней. Но, конечно, переживал, примет ли его жена без ноги-то – какой он теперь работник, только обуза… Но тут другая история произошла.
Добрались они до станции Борзя на Алтае, проводила Валя Тимофея до дома. Он туда зашёл, а она решила дождаться: надо убедиться, что он здесь останется, сходить в исполком и подписать командировку – святое дело! Документ – это такая важная вещь. И вот Тимофей вышел, белый, как полотно, и сказал:
– Валя, у меня жена-то живёт с другим. Они живут здесь, это её дом. А у меня дома, получается, нет, мой дом в другом селе, и там живут другие люди. Не знаю, куда теперь и податься…
Валя отвечает:
– А поехали в Иваново, и будем мы с тобой.
Тимофей оформил там сразу развод, сам подал заявление, получил официальный документ, чтобы потом жениться можно было, детей заводить по всем законам. И вернулись они вместе назад, в Иваново.
Бабушка Юля Валентину уговаривала, ругала:
– Валька, ты что? Он же ведь одноногий! Ты – девка видная. Что, ты себе не найдёшь парня, что ли? Их, конечно, не так много после войны, мужиков-то одиноких, но ты-то найдёшь точно.
Валя была хоть и невысокого роста, но симпатичная, шустрая да фигуристая. Но Валька-то – знай – своё твердит:
– Я его люблю. Люблю его и всё тут. И я ему нравлюсь, он сам мне сказал, что я ему нравлюсь!
Он не говорил высоких слов, а «нравишься» – и всё. Они решили пожениться, вот хоть кол на голове теши. Там, в семье Ноговицыных, все такие упрямые! Пошли Валентина с Тимофеем и расписались в ЗАГСе, поженились официально, она взяла его фамилию – Банщикова, перестала быть Ноговицыной. И не ошиблась – счастливую жизнь прожили они, вырастили четверых детей…
Расскажу теперь всё, что знаю о своей родне по отцовской линии.
Мой отец, Николай Михайлович Сметанин, родился в деревне Иванцево Ивановского района, потом жил с родителями в Иванове, в маленьком доме на 4-й Минеевской улице. Его мать, Наталья Сергеевна, трудилась прядильщицей на фабрике Куваева, а отец, Михаил Иванович, там же обслуживал станки. На работу ходили пешком в любую погоду.
В семье родилось семеро детей-погодков: дочери Мария, Александра, Елизавета, Софья и сыновья Николай, Иван и Сергей. Жили очень бедно, не у всех детей была обувь, даже дрались из-за неё, если надо было куда-то идти. А Коля, начиная с марта, в школу босиком ходил, тогда сильно ноги-то и застудил. Старшие ребята нянчились со средними детьми дома. За самыми маленькими детьми присматривать было некому, зимой их привозили в плетёных санках на фабрику и оставляли в проходной, а в перерыве мать выбегала, чтобы покормить малыша.
У моей бабушки, Натальи Сергеевны, был крепкий и красивый голос, она исполняла народные песни из репертуара Лидии Руслановой и других певиц. Когда она пела там, в Минееве, вся округа собиралась её послушать. У неё был настоящий голос – и к тому же очень красивый! Кстати, Мария Михайловна, её дочь, а моя тётя, унаследовала этот талант от матери, у неё был очень хороший, просто оперный голос, мощный и чистый, от природы данный. Её долго приглашали в филармонию, на профессиональную сцену. У неё при пении было правильное дыхание, и опора хорошая, я-то мог это оценить. Она пела оперные арии и «жестокие романсы» – «Хуторок», «Окрасился месяц багрянцем» и другие – очень похоже на Марию Максакову по тембру. Тогда Максакова была популярна, и моя тетя подражала ей в чем-то, потому что она же не училась музыке. И пела правильно – до самых последних своих лет. Мария Михайловна окончила юридический институт, работала юристом. Она вышла замуж, родила двоих дочек – Ларису и Любу – Кременецких по отцу. А Мария Михайловна решила свою фамилию не менять, осталась и после замужества Сметаниной.
Голос красивый был и у моего отца. Вот такая музыкальная, поющая была у него семья. Может, там и ещё кто-то хорошо пел, но это мне неизвестно…
Мать с отцом познакомились в 43 году на одной из танцплощадок города. Жили они неподалёку друг от друга: он – в Минееве, она – в Пустошь-Боре, и он её после танцев провожал до дома.
Мать рассказывала:
– Я у него спрашиваю: «А почему на войну-то тебя не берут?» Он говорит: «У меня бронь». Ну, бронь и бронь, мало ли… Я же не знаю, что они там производят, на Ивтекмаше-то…
Потом выяснилось, что не взяли его по состоянию здоровья, у него было очень больное сердце, да и сосуды ни к чёрту не годились. Когда уже поженились, мать узнала, что у него ревматизм, суставы опухают, и прочее…
Это именно отец назвал меня Николаем. Тогда Коль было не меряно, у меня друзья сплошь были Кольки! Я спрашивал у матери, почему так много Коль? Я Николай, отец Николай. Она объясняла:
– Так ведь детей по привычке в церквах крестили, давали имена святых, а самый сильный святой – это Николай. Он заступником для малыша будет. Одно плохо. Вот родился мальчик у нас в 48 году, я не хотела его Колькой называть. Плохая примета, говорю, если в семье ребенка назовут именем отца, то кто-то из них не жилец. А он возражает, мол, это дурацкое суеверие, глупости! Пошёл и сам записал его Колькой, а мальчик умер через полгода. Потом ты родился, тут я завизжала, прошу, чтобы ни в коем случае тебя Николаем не называл, умоляла. А он пошёл и опять записал сына Колькой… Вскоре после моего рождения, в 1952 году, отец умер из-за болезни сердца, ему было всего 27 лет. Вот тебе и суеверие…
Книги Николай просто запоем читал. Лампочка у нас была слабенькая, 15-ти ваттная. Так он под неё двигал стол, на него ставил стул, на который садился и часами читал, поближе к свету!
Несмотря на серьёзную болезнь, он все мужские работы в доме делал сам – и по дрова в лес один ездил, валил деревья, распиливал двуручной пилой, сняв одну из ручек, потом колол. Крышу чинил, забор, крыльцо правил…
Баба Юля ругала Катю, когда она собиралась замуж за Николая:
– Одна одноногого выбрала, другая – вот этого, тощего да бледного. Две видные девчонки, за ними вон какие парни ухаживали…
Три «жениха» у матери было, все плясали, пели, весёлые парни были, здоровые, с ногами, с руками, а она Кольку выбрала – больно пел хорошо. Ему кто-нибудь подыгрывал, а он пел, да как пел! Заслушаешься. Мать рассказывала, когда она, много лет спустя, в первый раз услышала, как поёт Александр Малинин, так и охнула: «Батюшки, Колька! Закрою глаза – Колька!» Мой отец, оказывается, пел точно так, как Малинин – его тембр, его голос…
У мамы же в семье пели немногие, там Катя оказалась самой главной запевалой, очень хорошо слова и мелодию запоминала, знала все песни от начала и до конца. У неё был редкий музыкальный слух – она могла и вторым или третьим голосом подпевать. Голос у неё, правда, был небольшой, но чистый.
Глава 3.
Кружится, кружится диск старинный…
В пору моего детства на стене, практически в каждой семье, висела старинная семиструнная гитара с бантом. Не знаю, откуда, но и у нас была такая гитара. Мать, кстати, немного умела играть на ней. Сама настраивала, и на первых четырех струнах она себе подыгрывала и пела, когда компания собиралась у нас дома, что случалось практически каждую неделю. Святое дело! Среди приходивших мужчин было много сверхсрочников – как теперь сказали бы, контрактников. Им было по 25-27 лет, все работали на рембазе Северного аэродрома. Почти все они курили, не вынимая папирос изо рта, то есть дым столбом стоял. К дыму я относился совершенно спокойно, будто его и нет, а мама говорила: «Пусть курят – хоть мужиком в доме пахнет…»
Они пели много хороших военных песен: «Прощай, любимый город…», «На поле танки грохотали…», «Пора в путь-дорогу», «Тёмная ночь» и другие.
А однажды мама похвасталась:
– Колька тоже умеет песни петь, с пластинок выучил!
Меня ставили на табуретку: «Колька, давай!» И я давал. Естественно, я никогда не отказывался. А чего стесняться, когда все здесь свои, да еще и выпивши? Я пел взрослые лирические песни с пластинок, например, «Хвастать, милая, не стану…», «На крылечке твоём», «Только глянет над Москвою утро вешнее», из Утёсова пел – и, надо сказать, с большим удовольствием, мне самому эти песни нравились.
«В Москве, в отдаленном районе, двенадцатый дом от угла…» – это был мой самый главный номер, моя «коронка»! Я пел чисто, им нравилось, как выдавал уморительный шестилетний шкет: «Прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя»! Гости все хохотали до слез, хлопали в ладоши при этом, и я понимал, что им нравится. И, хоть непонятно было мне, на что они там смеются, это неважно. Молодые, весёлые, чего же… Я смеялся вместе со всеми. Здорово было!
Детские песенки я пел и в саду, и в школе, а дома – вот эти, пластиночные. Причем, даже когда никого не было дома, я их заводил. Мне очень нравилось просто слушать и пассодобль «Рио-Рита», и фокстрот «Цветущий май», и танго «Брызги шампанского», и «Утомлённое солнце»… Такие прекрасные мелодии!
Мамины гости, бывало, выносили во двор наш патефон и танцевали под эти пластинки. Когда потом, много лет спустя, я смотрел фильм Ю.Б Норштейна «Сказка сказок», и там танцевали пары под вот такую же музыку, я сразу вспомнил, как тогда у нас во дворе танцевали.
Лично я заводил пластинки, крутил ручку патефона и, как теперь сказали бы, был ди-джеем, а тогда… «Коля, заводи там следующую!» Они даже не смели мне советовать, что заводить, это была моя «епархия», я сам знал, что заводить – две медленных уже сыграны, значит, сейчас надо быструю мелодию завести. «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали…» или «В Москве, в отдаленном районе…», «Мишка-Мишка».
…Я смотрю на мамины фотографии тех лет – худющая была, и не она одна, они все стоят худые. Тогда еще ватные подкладные плечи были модны, все их использовали. И вот, смотрят с фотографий эти послевоенные женщины – такие стройные, современные, прямо нынешние модели, в фитнес ходить не надо. Однако у них считалось, что худенькая, доходяга – это плохо, даже завидовали тем, кто полный: вот этой повезло – она справная! Они шутили: «Пока жирный сохнет, худой сдохнет», – и хохотали. Ну, с течением времени еда появилась, округлились как-то все. Мама говорила:
– Спасибо американцам, хоть они помогали – тушёнкой, крупами, много чего присылали.
– Мам, ты знаешь, ведь наше государство платило им золотом, у нас не было долларов, а бесплатно они нам ничего не давали. Америка очень нажилась на этом, я читал.
– Ну, мы-то об этом не знали, – говорит, – думали, американцы нам просто помогали, а так бы никакой еды не было, золото же есть не будешь. Да я его и в глаза не видела, это золото. Оно там где-то есть, и ладно. Хорошая-то еда нам была гораздо нужнее.
Я очень любил кино. Помню до сих пор фильмы «Олеко Дундич», «Над Тисой», «Кортик», «Дети капитана Гранта». Мне нравилось смотреть приключенческие фильмы.
Конечно, «Чапаев»! «Чапаева» я смотрел раз пятьдесят! Недалеко от нашего дома стоял балаган – собственно, сборный кинотеатр. Остов был сделан из ДСП или из какой-то другой плиты, но не из дерева, а сверху на дугах натягивали брезентовый тент, наподобие теплицы. На зиму тент снимали, чтобы его не продавил и не порвал снег, а остов стоял. Когда снег сходил, опять натягивали этот тент, ставили внутри лавки и экран, и начинался сезон кино. Вывешивали красивые афиши – расписание на всю неделю. Мы все фильмы смотрели в этом балагане. Красота!
В задней стенке нашего балагана было просверлено много дыр. Кем? Предприимчивыми людьми, кто не поленился из дома принести дрель и просверлить стенку. Почему я говорю, что «Чапаева» смотрел раз пятьдесят? У меня денег не хватило бы, если б я платил каждый раз за билет. Просто обычно этот фильм я просматривал в дырочки. Иногда дырочки были очень высоко, а низкие заняты, тогда смотрели по очереди с кем-нибудь: давай я у тебя на закорках посмотрю в дырочку, потом – наоборот. Правда, некоторые вредины изнутри тыкали в дырки гвоздями, но бесполезно – у всех нас с собой были стёклышки, которые мы к этим дыркам прижимали. Вот такие балаганные ухищрения ради кино!
Помню, мы смотрели фильм «Разные судьбы», а там такие песни отличные исполняли! Вот я, например, не любил фильм «Свадьба с приданым», но там очень красивые песни, и я приходил просто их послушать. Диалоги мне казались скучными и фальшивыми, очень раздражали, а вот музыка… «Хвастать, милая, не стану…», «На крылечке твоём…». Такие песни замечательные, для меня лично они отличались от самого фильма, как небо и земля. «Весёлые ребята» я смотрел тоже много раз, особенно нравилась сцена драки. Это было так здорово и смешно сделано! Помните: «А, по-моему, это ведь у вас шум, в вашей комнате!» «Что вы! Мы же культурные работники!» – говорил Утёсов, игравший Костю Потехина, героя фильма. Ну, и Орлова, конечно, потрясающая Любовь Орлова! Как она там блистала! Настоящая звезда экрана была, единственная и неповторимая. Играла она Стрелку или других, казалось бы, простых девушек, но всё равно в ней чувствовалась звезда, ощущалось это. А потом – «Цирк», там пели «Широка страна моя родная…». Или «Светлый путь» с «Маршем энтузиастов»: «Нам нет преград…» Я все эти песни знал, все любил. И «Марш энтузиастов», и «Ленин всегда живой» я тоже знал наизусть, потому что постоянно слушал радио.
О, это отдельная история – радио! У деда и бабушки Ноговицыных радио было еще в деревне Дьяково, они перевезли его оттуда и повесили в углу. Чёрная круглая тарелка, обыкновенная, из которой в фильмах Совинформ бюро вещало во время войны.
Я обожал радио, слушал и известия, и музыку. Было много молодежных и просто «модных» песен. Конечно, у них там «Битлов» и Элвиса, например, не было, но всё советское звучало. Прекрасной музыкальной классики много было, интересные радио спектакли, литературная классика, юмористические передачи – один Райкин чего стоил!
Я всегда слушал «Театр у микрофона», очень любил эту передачу. Если было у меня время, я пропускал даже гулянье с друзьями ради спектакля по радио. Такие пьесы были, что заслушаешься! Идет трансляция спектакля и вдруг – молчание, что-то происходит на сцене, но слушатель этого не видит, поэтому нужен был комментатор. Как сейчас помню, давали «Принцессу Турандот», и там звучит комментарий: «На площадь по-пластунски выползает начальник стражи Бригелла»! Я от смеха просто падал! До сих пор помню эти комментарии. Эта радио-тарелка давала, я бы сказал, разностороннее видение мира – шли то политические, то музыкальные, то театральные, то спортивные передачи. Лично мне почти всё было интересно. И детские передачи – там «рулил» почти во всех ролях непревзойдённый Николай Литвинов. Корабельный кок Антон Камбузов приветствовал меня как «юного географа»… Ну, и далее – «Клуб знаменитых капитанов», «КОАПП», «Угадай-ка», «Музыкальная шкатулка», «Театр у микрофона» и многое, многое другое…
Мы никогда не выключали радио, потому что мало ли какие известия поступят. Так повелось еще с довоенного времени, передачи шли весь день – от гимна в 6 утра и до гимна в полночь. Атомная бомба, о которой все были наслышаны, даже по ночам иногда снилась…
А еще я слушал футбол, к которому пристрастился очень рано. Меня не приучали, я сам. Прекрасно помню животрепещущие радиорепортажи Вадима Синявского!
Не забуду, как впервые посмотрел у моего приятеля Жоры Удалова по телевизору, на маленьком экране с большой водяной линзой матч «Спартак» – «Локомотив», в 57-м или 58-м году это было. Само слово меня завораживало – Спартак! Какое-то романтическое. Я тогда не знал, кто такой Спартак, к тому моменту мне никто про него ничего не рассказывал, историю я по малолетству ещё не изучал, и фильм с Керком Дугласом пока не вышел. Но я знал песню о юном барабанщике: «Вперед продвигались отряды спартаковцев, юных бойцов». То есть спартаковцы – это смелые юные бойцы. Я, конечно, болел за «Спартак», и он выиграл – 2:1! Так навсегда я и остался его верным болельщиком. Матчи этой футбольной команды я всегда смотрел и до сих пор смотрю.
Дядя Аля, наш квартирант, в 62-м году купил нам первый телевизор «Заря», с довольно большим экраном, и музыки стало еще больше, тогда стали популярны «Голубые огоньки». Появился ещё больший выбор, что слушать и кого смотреть. Имена актёров и певцов запоминали насмерть.
А сейчас я ненадолго загляну вперёд – здесь, думаю, это будет кстати.
В 1963-м году тот же Жора Удалов, футболист юниорской команды ивановского «Текстильщика» и отличный, весёлый парень, позвал меня послушать на его огромной радиоле «заграничную передачу» радиостанции BBC (Би-Би-Си) – точнее, её позывные. Так я впервые услышал и сразу навсегда полюбил «The Beatles» – они пели «Can't Buy Me Love» («Любовь нельзя купить»).
И ведь благодаря именно этой песне битлов я впоследствии сам научился играть на 6-струнной гитаре, которую мне присудили в качестве главного приза на бардовском конкурсе города. Тогда я ещё играл на маминой 7-струнке, со «звёздочками» и баррэ. А вот битловские песни надо было играть только на 6-струнной гитаре, иначе они просто не звучали бы, как у «Битлз». Да и английский язык я «изучал» по их балладам – в школе-то я учил немецкий…
Но всё это было потом.
Оглядываясь на свое раннее детство теперь, когда основная часть жизни пройдена, я вижу, как много всё это значит для меня и сегодня. Часто вспоминаю наш деревянный дом на ивановской окраине, моих родных, моих друзей-подружек, первые впечатления от нашего бедного, неустроенного быта, нехитрых детских забав, от музыки, которую теперь именуют «ретро», а главное – от той простой, трудовой, весёлой и дружной жизни, которая нас всех тогда объединяла. И болит душа от сегодняшних людских раздоров, от жестокости к себе подобным, лжи и корысти, от унизительной нищеты одних и безумного богатства других, от нежелания расслышать и понять друг друга.
Ау, люди, где вы?! Оглянитесь на свое детство, вспомните родителей, отыщите в своем сердце то светлое и доброе, что было почти у каждого из вас, – и постарайтесь передать тем, кто верит вам и идёт за вами.



