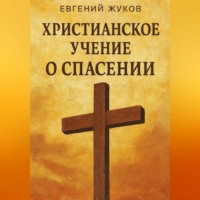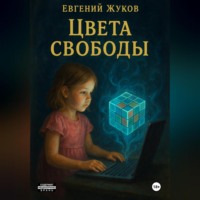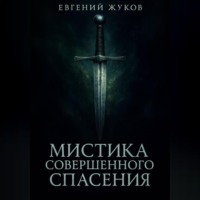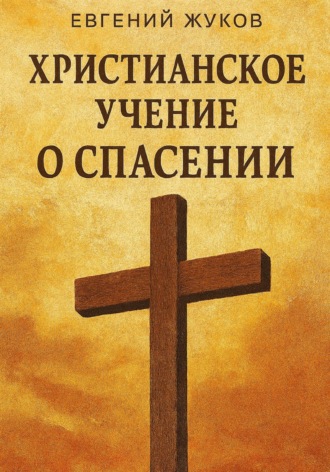
Полная версия
Христианское учение о спасении
Особенно показательно утверждение о возможности исполнения евангельских заповедей прежде познания Евангелия. Это не просто богословская ошибка, но радикальное извращение самой природы спасения. Внешнее подобие добрых дел принимается за их духовную сущность, словно мертвые дела плоти могут быть угодны Живому Богу.
В этом толковании разрушается сама основа благодати: получается, что человек может сам искать Бога, а Бог лишь отвечает на человеческие усилия. Но Писание свидетельствует об обратном: «Нет разумеющего, никто не ищет Бога» (Рим. 3:11). Само искание Бога возможно лишь как ответ на предваряющее действие благодати.
Симеон превращает историю о суверенной благодати, избирающей язычника, в повествование о человеческих достижениях. В его интерпретации Корнилий предстает не как пример действия благодати среди язычников, но как образец природной праведности, что полностью противоречит учению апостола Павла о всеобщей греховности.
После рассмотрения пелагианского толкования Симеона Нового Богослова обратимся к свидетельству древней Церкви. Фульгенций Руспийский, этот светоч богословия VI века, раскрывает перед нами совершенно иное понимание истории сотника Корнилия. В его толковании, сохранившем чистоту апостольского учения о благодати, история языческого сотника предстает не как пример природной праведности, но как торжество предваряющей благодати Божией. Особую значимость словам Фульгенция придает его близость к эпохе великих богословских споров о благодати.
Фульгенций
«И Кто же, послав ангела, наставил сотника Корнилия, чтобы он призвал апостола Петра, если не Тот, Кто [ранее] вложил безвозмездно в этого же сотника дар страха Божия и добродетельной жизни? Ведь для того, чтобы Богу могли прийти на память молитвы и милостыни Корнилия, Бог сначала вспомнил о самом Корнилии – не за какое-либо его доброе дело, а по Своему благоволению, чтобы вложить в него дар страха Божия, которым Бог вдохновил его на усердие в милостыне и на стремление к святой молитве. Итак, Тот, Кто нашел в Корнилии нечто угодное Ему, Сам предоставил ему благодать быть угодным Ему. Ведь Он – Тот самый Бог, о Котором апостол говорит: «Бог мира, Который воскресил из мертвых великого пастыря овец кровью вечного завета, нашего Господа Иисуса Христа, пусть сделает вас пригодными ко всякому добру, чтобы вы исполняли волю Его, делающего в вас то, что угодно Ему» (Евр. 13:20–21). И то, что Корнилий был наставлен призвать к себе Петра, было до такой степени делом Божественной благодати, что и самому блаженному Петру, когда к нему пришли посланные от Корнилия, Святой Дух не только повелел идти с ними, но и, устраняя робость всякого сомнения, подтвердил, что эти люди были посланы Им Самим. В самом деле, Святой Дух сказал этому блаженному Петру: «Вот, три мужа ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, не сомневаясь, потому что Я послал их» (Деян. 10. 19–20)» (Об истине предопределения и благодати Бога, 1, 20; перевод Д. В. Смирнова4).
В толкованиях Симеона Нового Богослова и Фульгенция раскрывается фундаментальное противостояние двух богословских парадигм: синергизма, где человек предваряет благодать, и монергизма, где всякое духовное движение души есть плод суверенного действия Божия.
Фульгенций раскрывает истину о предваряющей благодати с поразительной ясностью: даже сам страх Божий в сердце Корнилия был не природным достижением, но даром свыше. Подобно тому как свет предшествует всякому зрению, так благодать предваряет всякое духовное движение души. Молитвы и милостыни сотника были не причиной, но следствием Божественного избрания.
В противоположность этому Симеон рисует картину природной праведности, где язычник собственными силами достигает исполнения евангельских заповедей. В этой перспективе благодать превращается в ответ на человеческие достижения, а Бог становится должником человеческих добродетелей. Здесь обнаруживается классическое пелагианское извращение: природа предваряет благодать, человеческое усилие определяет Божественное действие.
Особенно показательно различие в понимании самой природы духовной жизни. Для Фульгенция всякое доброе движение души есть плод благодати: Сам Бог даровал Корнилию «благодать быть угодным Ему». Для Симеона же духовная жизнь начинается с природных способностей и лишь увенчивается благодатью. В одном случае перед нами чудо воскресения мертвых, в другом – история человеческого самосовершенствования.
Толкование Фульгенция сохраняет целостность евангельского благовестия: Бог не только завершает, но и начинает дело спасения. Даже само желание искать Бога оказывается плодом предваряющей благодати. В системе же Симеона благодать низводится до уровня помощницы человеческих усилий, что неизбежно ведет к извращению всего домостроительства спасения.
История Корнилия в руках этих богословов становится либо свидетельством суверенной благодати, избирающей язычника, либо примером природной праведности, достигающей Божественного признания. За этими толкованиями стоят два непримиримых понимания отношений между природой и благодатью, между человеческой волей и Божественным избранием.
Ефрем Сирин
«Но кроме того, соделал всех людей единым телом, и, говорит, в одном лице Адама грешника, и начал доказывать, что Он есть Адам сравнительно с Адамом. Как первый тот (Адам) посеял греховную нечистоту в чистые тела, и вложена была закваска зла во всю нашу массу (естество), – так Господь наш посеял праведность в тело греха, и закваска Его всю нашу массу (естество) смешала: «как чрез Адама грех вошел,.. и чрез грех… смерть», так и на всех эта самая смерть распространилась, ибо все, как предки, так и потомки грехом согрешили» (Толкование на Послание к Римлянам, 5, 125).
В толковании Ефрема Сирина обнаруживается характерное для восточного богословия смещение акцентов с юридического на онтологический аспект спасения. Сам образ «закваски зла», проникающей во всю массу человеческого естества, указывает на природный, а не личностный характер греха.
За этим, казалось бы, поэтическим образом скрывается глубокое богословское заблуждение. Если грех передается подобно закваске в тесте, то и спасение неизбежно мыслится как природный процесс преображения, где благодать действует наподобие естественной силы. В этой схеме крещение становится не актом прощения и оправдания, а своего рода духовным семенем, которое человек должен взрастить собственными усилиями.
Такое понимание неизбежно ведет к искажению самой сути евангельского благовестия. Вместо радикального разрыва между смертью и жизнью, между осуждением и оправданием, мы получаем плавный процесс духовной эволюции, где человек постепенно «обоживается» посредством своих подвигов. Благодать здесь превращается в некую природную силу, содействующую человеческому восхождению.
В этой системе координат сама идея вмененной праведности Христа становится чуждой и непонятной. Если спасение есть процесс преображения природы, то какой смысл в юридическом акте оправдания? Если человек способен развивать семя благодати в силу своего ума и сил, то зачем нужна всепокрывающая праведность Христа?
За этим смещением акцентов стоит фундаментальное непонимание глубины человеческого падения. Грех рассматривается не как состояние виновности и отчуждения от Бога, требующее юридического разрешения, но лишь как повреждение природы, требующее исцеления. В результате все здание сотериологии оказывается построенным на зыбком основании полупелагианского оптимизма относительно человеческих возможностей.
Митрополит Макарий (Булгаков)
«Под следствиями же первородного греха Церковь разумеет те самые следствия, какие произвел грех прародителей непосредственно в них и которые переходят от них и на нас, каковы: помрачение разума, низвращение воли и удобопреклонность ее ко злу, болезни телесные, смерть и прочие. «А бременем и следствиями падения, – говорят восточные Патриархи в своем Послании о православной вере, – мы называем не самый грех… но удобопреклонность ко греху и те бедствия, которыми Божественное Правосудие наказало человека за его преслушание, как то: изнурительные труды, скорби, телесные немощи, болезни рождения, тяжкая до некоторого времени жизнь на земле странствования, и напоследок телесная смерть» (чл. 6).
Примеч. Это различение следствия первородного греха от самого греха надобно твердо помнить особенно в некоторых случаях, чтобы правильно понимать учение православной Церкви, – например, о плодах таинства Крещения, которое хотя изглаждает, уничтожает в нас первородный грех, т.е. очищает собственно греховность нашей природы, и соделывает нас чистыми и невинными пред Богом, но не уничтожает в нас самих следствий первородного греха, каковы: удобопреклонность ко злу, болезни, смерть и другие (Рим. 7:23)» (Руководство к изучению христианского, православно-догматического богословия, 3, 656).
Соборы, бывшие в пятом веке, по случаю ереси Пелагиевой, отвергавшей действительность первородного греха в людях. Известно, что с 412 года по 431 в разных местах христианского мирa, и на востоке, и в особенности на западе, было более двадцати соборов, которые рассматривали означенную ересь, и все единодушно предали ее анафеме. Объяснить такое единодушное восстание против заблуждения Пелагиева было бы невозможно, если бы в Церкви Христовой со времен самих Апостолов не было распространено и глубоко укоренено учение о первородном грехе» (Руководство к изучению христианского православно-догматического богословия, 3, 667).
Если крещение «соделывает нас невинными», то логично предположить, что вина есть? Если крестят младенца, то, вероятно, он, согласно учению о таинстве крещения, имеет вину? Выражение «очищает собственно греховность нашей природы… и соделывает нас невинными» нельзя понимать иначе, чем в том смысле, что поврежденная природа имеет наследованную вину.
Митрополит указывает на 20 соборов с 412 по 431 год. Однако, это не верно. Вот соборы прямо или косвенно причастные к рассмотрению пелагианского учения:
Синод в Карфагене (411 год).
Синод в Иерусалиме (415 год).
Диоспольский собор (415 год).
Карфагенский собор (416 год).
Милевский собор (416 год).
Синод в Риме под председательством папы Зосимы (417 год; оправдание Пелагия).
Карфагенский собор (417 или 418 год; протест против оправдания Пелагия).
Карфагенский собор (418 год; принятие антипелагианских постановлений).
Синод в Риме под председательством папы Зосимы (418 год; осуждение пелагианства).
Третий Вселенский (Эфесский) собор (431 год; косвенно, осуждение пелагианства).
Примечательно, что все эти соборы происходили на западе империи. Кроме Диоспольского, который Пелагия оправдал – характерный эпизод, хотя в дальнейшем Августин в сочинении «О деяниях Пелагия» (De gestis Pelagii) указал на то, что Пелагий избежал осуждения из-за своих уловок. Эфесский Собор лишь поддержал решение Римской кафедры об осуждении предводителей пелагианства и сообщил об этом папе Римскому Целестину I.
Если приводятся эти соборы, как нормативные в учении о первородном грехе, то надо заметить, что они прошли полностью под теологическим руководством Августина. Именно он сформулировал богословские идеи, которые легли в основу этих соборов. А его учение о первородном грехе в своей основе имеет вменение вины Адама его потомкам. Изучение Карфагенского собора (418) – отдельная тема для специалистов, но позволю выразить свое мнение: хотя в постановлениях Карфагенского собора (418) отсутствует прямое упоминание о наследуемой всеми людьми от Адама вине, нет оснований сомневаться в том, что участники собора были в этом вопросе единомышленниками Августина. Поэтому для них вполне могло быть самоочевидным, что учение о повреждении природы и о необходимости крещения младенцев предполагает также признание перехода на всех людей вины Адама.
Поэтому, мнение митрополита Макария, как и все православное понимание первородного греха полно противоречий, как я покажу ниже, в комментарии к цитате из сочинения Августина «О благодати Христовой и о первородном грехе».
Толковая Библия Лопухина
«Какое же было участие потомков Адама в его грехе? Оно не было сознательным и свободным – потомки Адама в то время еще не существовали, как личности. Но так как, по представлению Апостола, все человечество является неразрывным и единым организмом и каждый отдельный человек имеет предшествующее бытие в своих предках и последующее – в потомках, то, очевидно, все люди, по представлению Апостола, уже существовали в Адаме в форме общечеловеческой природы. Человек самою природою своею участвовал в преступлении Адама. Вступивший в природу первого человека грех поселил в ней начало смерти, и она уже с этим началом так и осталась и перешла к потомкам Адама (Мышцын, стр. 140–144). Но если участие всех людей в грехе Адама было безвольным и бессознательным, то возможно ли допустить, чтобы вечная судьба свободного и разумного индивидуума зависела от этого акта? Конечно, нет – это было бы несправедливо» (Толковая Библия. Толкование на Рим. 5:12 )8.
Вот классический аргумент против учения о вине Адама. Однако об оценке действий Творца со стороны своего творения я уже довольно писал выше.
Архиепископ Феофан (Быстров)
«Блаженный Августин, вследствие слабого знания греческого языка, недостаточно внимательно отнесся к подлинному греческому тексту послания апостола Павла и по той же причине не мог в надлежащей мере воспользоваться толкованиями на эти послания православных восточных отцов…
Поэтому св. Иоанн Златоуст, лучший знаток подлинного апостольского текста, находил в 5:12 только ту мысль, что “как скоро он Адам пал, то чрез него соделались смертными и не евшие от запрещенного древа”.
Так и блаженный Феодорит говорит: “Посему, когда Адам, находясь уже под смертным приговором, в таком состоянии родил Каина, Сифа и других, то все, как происшедшие от осужденного на смерть, имели естество смертное”»9.
Здесь нужно остановиться подробнее.
Современные православные богословы нередко утверждают, что учение о вменении вины за первородный грех возникло исключительно благодаря неправильной интерпретации Рим. 5:12 Августином, якобы из-за его слабого знания греческого языка.
Августин действительно знал греческий не в совершенстве, хотя и знал. Действительно, Августин пришел к своему толкованию еще до того, как сверился с греческим текстом. Свое понимание он использовал на основе латыни, это научно доказывается из его текстов. При этом Августин не первый, кто так понял это место у Павла. Он согласился с толкованием Амвросиаста на этот стих.
Это просто очередной невежественный анекдот, которых, к сожалению, большинство. Как, например, анекдот, что западная традиция основывается на Боге латинского права (Deus iuris), а православная на Боге любви (Θεὸς τῆς ἀγάπης). Якобы запад слишком любит закон, а вот для востока закон не нужен, потому что везде сплошная любовь. Анекдот про невежественного Августина основан на попытке обесценить его авторитет и западной традиции в целом, а не на объективном анализе текстов.
Прежде всего, аргумент о «слабом знании греческого» Августином сам по себе является слабым. Да, Августин предпочитал латынь, но он владел греческим достаточно для работы с оригинальными текстами.
Его интерпретации основывались на богословском видении и традиции, а не только на лингвистических деталях. Более того, обвинение, будто бы идея вменения вины появилась из-за Августина, просто абсурдно. До него о передаче вины за первородный грех уже говорили такие церковные авторы, как:
Ириней Лионский;
Тертуллиан, который в своих трудах утверждал, что грех и вина Адама передаются его потомкам через рождение;
Киприан Карфагенский, который настаивал на крещении младенцев для отпущения вины Адама;
Амвросий Медиоланский, который в своих трудах говорил о первородном грехе как о состоянии вины, передающейся через человеческую природу.
Таким образом, аргумент, что Августин «придумал» вмененную вину, противоречит историческим фактам. Уже задолго до него западные отцы Церкви рассматривали вину Адама как передающуюся его потомкам.
После Августина учение о передаче вины за первородный грех получило дальнейшее развитие и поддержку в западной традиции. В течение столетий это учение утвердилось как важнейший аспект христианской антропологии. Следует отметить, что богословы после Августина, такие как Проспер Аквитанский, Фульгенций Руспийский, Григорий Двоеслов, папа Лев Великий, Кассиодор, Боэций, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, Алкуин Йоркский, Раббан Мавр, Иоанн Скотт Эриугена, Ансгар Гамбургский, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, а позже и реформаторы – Мартин Лютер и Жан Кальвин, глубоко анализировали этот вопрос и укрепили его место в христианском учении.
Ансельм, например, утверждал, что Божий суд и наказание всегда справедливы. Если смерть и страдания передаются всему человечеству, это означает, что люди разделяют вину Адама. Его знаменитый труд «Почему Бог стал человеком» («Cur Deus homo») подчёркивает необходимость искупления, основанную на вмененной вине.
Фома в своем труде «Сумма теологии» чётко заявил, что первородный грех есть состояние вины, передаваемое от прародителей к потомкам. Он рассматривал передачу первородного греха как универсальное состояние, которое делает всех людей нуждающимися в благодати.
Лютер, опираясь как на латинский, так и на греческий текст, настаивал, что «все согрешили» означает универсальность греха и вины. Он подчеркивал, что в Адаме мы все не просто пострадали, но согрешили.
Для этих богословов это не просто богословская идея, а центральная истина христианской веры, связанная с благодатью Христа.
Критика аргумента о «греческом языке»
Все эти богословы, начиная с Тертуллиана и заканчивая Лютером и Кальвином, прекрасно знали греческий язык (лучше, чем большинство современных православных критиков). Они опирались не только на латинскую Библию, но и на оригинальный греческий текст.
Аргумент, что знание греческого как-то опровергает учение о вмененной вине, просто несостоятелен. Слова «πάντες ἥμαρτον» при любом толковании понимаются как «все согрешили»; спор идет том, как понимать стоящую перед этими словами конструкцию «ἐφ’ ᾧ» – «потому что» или «в котором». Из понимания «потому что» выводится пелагианская идея о том, что все согрешили сами, не в Адаме, а по его примеру. Любое прочтение не отменяет вывод о вменении, так как проблема не в лингвистике, а в богословском смысле. Павел дает аналогию: в Адаме – во Христе. Это центр его аргументации.
1. Проклятие и вина: взаимосвязь
Как утверждали учителя Церкви, невозможно представить проклятие над человечеством без вины. Божий суд всегда справедлив, и если все потомки Адама подвержены смерти, страданиям и изгнанию из райской благодати, то это происходит не только из-за повреждения природы, но и из-за вины. Проклятие предполагает справедливое основание, и это основание – вина за грех.
Таким образом, даже если читать Рим. 5:12 как «потому что все согрешили» вместо «в котором все согрешили», это не отменяет факта, что проклятие распространяется на всех, а проклятие Божье всегда справедливо.
2. Вмененная вина и Божия справедливость
Грех Адама – это не просто повреждение природы, но и акт, который изменил юридическое состояние человечества перед Богом. Если проклятие передается всем, это означает, что все виновны перед Богом.
Эта логика универсальна и разделяется как реформаторами, так и средневековыми католическими богословами. Если смерть и страдания – это результат осуждения, значит, это осуждение основывается на вине, разделённой всем человечеством в Адаме.
3. Вменение как акт благодати и спасения
Учение о вменении вины не только подчёркивает проблему первородного греха, но и делает ясным величие Божией благодати. Если грех Адама вменен всем его потомкам, то праведность Христа вменяется всем, кто верует в Него. Павел пишет:
«Ибо как через непослушание одного человека многие стали грешниками, так и через послушание одного многие станут праведниками» (Рим. 5:19).
Это параллель между Адамом и Христом. Вмененная вина и передача греха подчёркивают необходимость искупления через Христа. Без этого мы бы не могли понять, насколько велико дело искупления.
Такое понимание связывает всю христианскую традицию – от древних отцов до реформаторов, которые поддерживали учение о вмененной вине как фундаментальное выражение истины Божией справедливости и благодати.
Еще до Августина мы находим учение о наследуемой вине у Иринея, Тертуллиана, Киприана Карфагенского, Амвросия Медиоланского.
После Августина это учение исповедуют папа Лев Великий, Григорий Двоеслов, Фульгенций Руспийский и множество других отцов. Более того, оно получило соборное утверждение на Карфагенском соборе 418 года и было воспринято как неотъемлемая часть кафолического предания всей Церковью. Представлять учение о наследственной вине как частное богословское мнение Августина – значит игнорировать огромный пласт святоотеческого наследия и соборных определений Церкви. Это не «августинизм», а кафолическая истина, исповедуемая Церковью от апостольских времен. Учение о крещении младенцев во оставлении грехов закреплено Карфагенским собором (418), который принимался всегда всей Церковью. Осуждение пелагианства было выражено на Эфесском Вселенском соборе, где были подтверждены послания папы Целестина I. И хотя точной формулировки насчет наследуемой вины не содержится в актах собора, однако логика выражения «во оставление грехов» для младенцев и осуждение пелагинского учения, которое помимо прочего отрицало вину Адама, говорит о том, что суть учения о первородном грехе в контексте вины понималась как не просто теологическое мнение, а как неизбежная и неотъемлемая часть христианского вероучения. Осуждение пелагианства, которое отрицало необходимость благодати для спасения и утверждало, что человек может быть оправдан только своими собственными усилиями, неизбежно влекло за собой утверждение важности учения о первородном греха и его наследственном воздействии на все человечество. Именно это учение о первородном грехе, как наследственной вине, объясняло необходимость крещения, которое было доступно даже младенцам, поскольку оно очищает их от греха, унаследованного от Адама.
Эфесский собор 431 года, хотя и не формулировал напрямую учение о наследственной вине, также поддержал в своем контексте те решения, которые были направлены против пелагианства и признали неизбежность необходимости Божьей благодати для спасения. Послания папы Целестина I, поддерживающие осуждение пелагианства, были включены в акты собора и имели важное значение для дальнейшего укрепления истинного понимания первородного греха и роли благодати в спасении.
Таким образом, даже если Эфесский собор не дал точного определения учению о первородном грехе как наследственной вине, его решения тесно связаны с этим учением, и в контексте осуждения пелагианства оно воспринималось как основное вероучение Церкви. Хотя эти соборы стали частью универсального учения, признанного не только в западной, но и в Восточной Церкви, однако святоотеческая традиция на Востоке осталась, по сути, пелагианской или в лучшем случае полупелагианской, с акцентом не на незаслуженной благодати Бога, а не усилиях адепта по выбиванию этой благодати как энергии для самоспасения. И фактически, отвергая учение о наследуемой вине, восток отвергает авторитеты древних соборов.
Учение о полном повреждения и наследовании вины
Полное повреждение
Лактанций
«Итак, мы были прежде, казалось, слепы, и сидели, словно заключенные в темницу неразумия, не видя Бога и истины, теперь же мы озарены Тем, Кто усыновил нас заветом Своим, и нас, освобожденных от пут зла и приведенных к свету мудрости, принял [Господь] в наследие Царства Небесного» (Божественные установления, 4, 20, 1310).
Иларий Пиктавийский
«В заблуждении одного Адама стал заблудшим весь человеческий род» (Толкование на Евангелие от Матфея, 18, 6; перевод Д. В. Смирнова11).
«Мы обнаруживаем в человеке три вещи, а именно, тело, душу и волю. Ведь как телу была дана душа, так и каждому из них была дарована власть пользоваться собой по своей воле, и потому закон был дан воле. Однако это обнаруживается в тех людях, которые были сотворены Богом первыми, у которых начало их происхождения было впервые произведено, а не передано откуда-то еще. Но из-за греха и неверия первого родителя грех стал отцом нашего тела, а неверие – матерью нашей души для последующих поколений, поскольку мы приняли свое происхождение от них из-за преступления первого родителя. И притом каждому принадлежит его собственная воля. Таким образом, теперь в одном доме находятся пятеро: отец тела – грех, мать души – неверие, и проявляющаяся свободная воля, которая связывает с собой человека целиком неким союзом, подобным брачному. Неверие – это свекровь этой воли; оно принимает нас, рожденных им и удаляющихся от веры и страха Божия, чтобы удерживать нас, находящихся во власти неверия и греховного вожделения, пользуясь нашим неведением о Боге и услаждением всяческими пороками. Итак, когда мы обновляемся омовением крещения через силу Слова, мы отделяемся от грехов и властей, связанных с нашим происхождением; как бы отсеченные мечом Божиим, мы избавляемся от привязанностей к отцу и матери. Сняв с себя ветхого человека с его грехами и неверием, и обновленные Духом в душе и в теле, мы должны ненавидеть привычку к тому рождению и к той ветхости, от которых мы были избавлены» (Толкование на Евангелие от Матфея, 10, 23–24; перевод Д. В. Смирнова12).