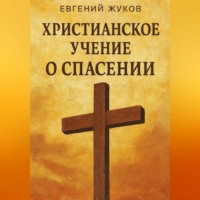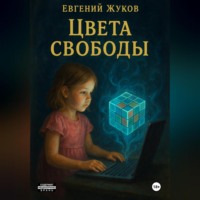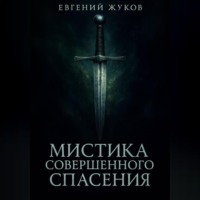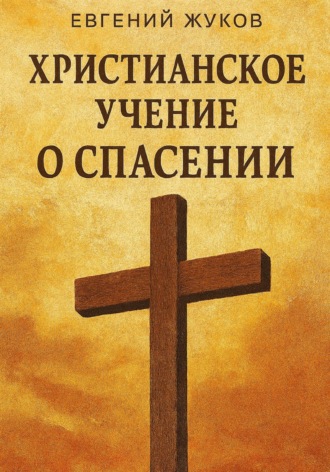
Полная версия
Христианское учение о спасении
Амвросий
«В одном человеке можно увидеть род человеческий. Был Адам, и в нем были все мы; погиб Адам, и в нем все погибли» (Изъяснение Евангелия от Луки, 7, 23413).
Амвросиаст
«“Продан греху” (Рим. 7. 14). Это и значит быть проданным греху: происходить от Адама, который первым согрешил, и становиться подчиненным греху из-за собственного преступления. Как говорит пророк Исаия: “Вы проданы за грехи ваши” (Ис. 50:1). Адам продал себя первым, и вследствие этого все его семя было подчинено греху. Поэтому человек слишком слаб, чтобы соблюдать предписания закона, если он не будет укреплен Божественной помощью. Отсюда слова: “Закон духовен, а я плотян, продан греху”. То есть: закон тверд, справедлив и не несет в себе вины, но человек хрупок и подчинен родительскому или собственному преступлению, так что он не может воспользоваться своей властью в деле послушания закону» (Толкование на Послание к Римлянам, 7, 14, 2–3; перевод Д. В. Смирнова14).
Августин
«Итак, зачем несчастные люди дерзают гордиться собственным свободным решением еще до того, как они освобождены, или собственными силами после того, как они были освобождены. Они не понимают, что в самом наименовании «свободное решение» в любом случае звучит слово «свобода»; ведь «где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17). Итак, если они рабы греха (Ин. 8:34), зачем они хвалятся своим свободным решением? Ведь «кто кем побежден, тот тому и отдан в рабы» (2 Пет. 2. 19). А если они уже были освобождены, зачем они хвастаются этим, словно каким-то собственным делом, и хвалятся, как будто бы они это не получили?» (О Духе и букве, 30, 52; перевод Д. В. Смирнова15).
«О человек, в заповеди познай, что должен ты иметь; в упреке познай, чего ты не имеешь по своей порочности; в молитве познай, откуда принять тебе то, что желаешь иметь» (Об упреке и благодати, 3, 516)
«Пусть умолкнут здесь человеческие заслуги, погибшие по вине Адама; и пусть царствует царствующая благодать Божия через Иисуса Христа, Господа нашего, единственного Сына Божия, единого Господа» (О предопределении святых, 15, 3117).
«Ведь то, что обещает Бог, – это делаем не мы своим [свободным] решением или природой, но Он Сам Своей благодатью» (О благодати Христовой и о первородном грехе, 1, 30, 31; перевод Д. В. Смирнова18).
«Но люди трудятся, чтобы найти в нашей воле нечто доброе, что было бы нашим и не происходило бы от Бога; как это можно найти – я не знаю» (О воздаянии за грехи и об отпущении грехов, 2, 18, 28; перевод Д. В. Смирнова19).
Проспер
«Нет необходимости вновь трудиться, излагая то, что уже хорошо известно: каким учением пелагианская ересь замышляла разрушить кафолическую веру и какими ядами нечестий эта ересь желала отравить внутренности Церкви и важнейшие жизненные органы Тела Христова. Однако среди всего этого нечестия есть одно богохульство, наиболее негодное и наиболее изощренное семя прочих, а именно, когда пелагиане говорят, что благодать Божия дается по заслугам людей. Ведь сначала пелагиане желали наделить человеческую природу весьма великим здоровьем, утверждая, будто она может посредством одного только свободного решения приобрести Царство Божие, и указывая в качестве основания этого на то, что само ее устроение оказывает ей достаточную поддержку и помогает ей в том, чтобы она, естественным образом обладая размышляющим разумом, с легкостью избирала доброе и избегала злого; и поскольку деятельность воли может свободно склоняться как в одну, так и в другую сторону, злые люди не лишены способности совершать добро, но не имеют собственного стремления к этому» (Письмо Руфину, 1, 2; перевод Д. В. Смирнова).
Здесь мы сталкиваемся с поразительным фактом: то, что Проспер Аквитанский обличает как «самое негодное богохульство» пелагианской ереси, стало основой православного учения о спасении. Православное богословие утверждает именно то, что было осуждено Церковью как пелагианство:
что благодать дается в ответ на человеческие усилия и заслуги;
что падшая природа сохраняет достаточное здоровье для самостоятельного избрания добра;
что человек своими силами может искать Бога и приходить к вере;
что он способен собственными усилиями эту веру удерживать;
что через подвиг веры он стяжает благодать.
Это не просто отдельные элементы пелагианства в православном учении – это само существо пелагианской ереси. Когда православные богословы говорят о «свободе воли», о «синергии», о «стяжании благодати», они почти дословно повторяют те самые формулировки, которые были осуждены Церковью в борьбе с Пелагием.
Поэтому неверно называть православие «полупелагианским» – оно воспроизводит именно чистое пелагианство в его сущностных утверждениях о способности падшей природы к добру и о зависимости благодати от человеческих усилий. То, что древняя Церковь единодушно осудила как ересь, стало краеугольным камнем православной сотериологии.
Наследование вины
Ириней
«Но так как посредством того же самого, через что мы оказали непослушание к Богу и не поверили Его Слову, Он привнес послушание и покорность Слову Его, то Он через то ясно показал Того же Бога, Которого мы в первом Адаме оскорбили неисполнением Его заповеди, и с Которым мы примирились во втором Адаме, «быв послушны даже до смерти». Ибо не другому кому мы были должниками, а Тому, Коего заповедь преступили вначале» (Против ересей, 5, 16, 320).
Тертуллиан
«Итак, всякая душа до тех пор оценивается по Адаму, пока не будет переоценена во Христе; до тех пор нечистая, пока не будет переоценена; грешница, ибо нечистая, принимающая также и бесчестие плоти из-за их общности» (О душе, 40, 121).
В этом выражении Тертуллиана ключевым является слово «оценивается». Речь идет не о физическом повреждении природы, а о юридическом и личностном отношении Бога к человеку. До Христа каждая душа рассматривается Богом в свете преступления Адама – находится под гневом и осуждением, независимо от механизма передачи вины.
Тертуллиан улавливает важнейший аспект учения апостола Павла: первородный грех – это прежде всего состояние отчуждения от Бога, положение вражды и гнева. Как все человечество находилось под осуждением «в Адаме», так теперь верующие обретают оправдание и примирение «во Христе».
Эта параллель между двумя состояниями – осуждения в Адаме и оправдания во Христе – составляет сердце евангельского благовестия. Без понимания того, что проблема греха лежит прежде всего в сфере отношений с Богом, а не в области природных повреждений, невозможно постичь суть спасения как примирения и усыновления. Тертуллиан прозревает эту истину, говоря об «оценке» души – речь идет о том, как Бог рассматривает человека: либо как преступника в Адаме, либо как возлюбленного сына во Христе.
Киприан Карфагенский
«Не должно возбранять [принять крещение] младенцу, который, недавно родившись, ни в чем не согрешил, а только, родившись по плоти от Адама, воспринял заразу древней смерти, проистекающую от первого рождения, и который тем удобнее приступает к принятию отпущения грехов, что ему отпускаются не собственные, а чужие грехи» (Письмо 64, 5, 2; перевод Д. В. Смирнова22).
Эта цитата акцентирует внимание на осуждении, переданном от Адама, которое снимается только через крещение. Это свидетельствует о том, что для Киприана грех Адама имеет как индивидуальное, так и коллективное значение.
Киприан Карфагенский утверждал, что все люди рождаются под влиянием первородного греха, который передается от Адама. Он не использовал термин «вмененная вина» в западно-схоластическом смысле, но его учение подразумевает коллективное осуждение человеческого рода из-за грехопадения.
Амвросий Медиоланский
«Несомненно, все мы вольноотпущенники Христа, и никто не свободен, потому что все рождены в рабстве. Почему ты позволяешь себе высокомерие свободного при рабском положении? О рабское наследие, почему ты присваиваешь себе благородные звания? Разве ты не знаешь, что грех Адама и Евы продал тебя в рабство [в оригинале: culpa mancipauerit, вина продала]? Разве ты не знаешь, что Христос выкупил тебя, а не впервые купил? “Не золотом и не серебром искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровью Агнца” (1 Пет. 1:18–19), – восклицает апостол Петр» (Об Иакове и блаженной жизни, 1, 3, 1223).
«Ведь грех – от Адама, от него – вина, от него же и Ева, от него же – преступление, от него же – и человеческое состояние. Но именно для того и пришел Христос, чтобы уничтожить все ветхое, создать новое и обновить благодатью то, что было обветшавшим из-за вины» (О Товите, 23, 88; перевод Д. В. Смирнова24).
«И смерть распространилась на всех, хотя и через грех одного [человека]. Итак, не отказываясь от него как от причины рождения, мы не должны отказываться от него и как от причины смерти. Пусть для нас будет как через одного смерть, так через одного и воскресение. Не будем отвергать бедствия, чтобы достичь благодати. Ведь, как мы читаем, Христос пришел спасти то, что погибло (Лк. 19:10), чтобы Он был Господом не только живых, но и мертвых (Рим. 14:9). Я пал в Адаме, я был изгнан из рая в Адаме, я умер в Адаме. Кого же [Бог] возвратит [к жизни], если не найдет меня в Адаме? Как в Адаме я связан виной и обречен на смерть, так во Христе я оправдан» (О кончине брата Сатира, 2, 6; перевод Д. В. Смирнова25).
Святой Амвросий являет нам в этих словах кристальную ясность апостольского учения о первородном грехе. Как солнечный луч, преломляясь в драгоценном камне, являет всю чистоту его граней, так и мысль святителя Медиоланского раскрывает перед нами непреложную истину о наследственной вине.
Здесь нет места двусмысленности или уклончивости! В едином исповедании веры святой отец соединяет и всеобщность вины Адамовой, и универсальность искупления во Христе. «В Адаме я пал… в Адаме умер» – этот горький плач о реальности унаследованной вины находит свое разрешение только в торжественном возглашении: «Во Христе я оправдан»!
Величие святоотеческой мысли являет себя здесь в абсолютной верности апостольскому благовестию: как вина праотца вменяется всему роду человеческому, так и праведность последнего Адама даруется всем верующим. В этом исповедании Амвросия звучит та же Божественная логика спасения, которую начертал апостол Павел: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22).
Амвросиаст
«“В котором” – то есть в Адаме – “все согрешили” (Рим. 5:12). Ясно, что в Адаме все согрешили как бы в смеси (in massa), ведь он был испорчен грехом, так что все, кого он родил, были рождены под грехом. Итак, от него мы все грешники, поскольку от него мы все происходим. Ведь он потерял благоволение Божие, когда совершил преступление, стал недостойным вкушать от древа жизни, и потому умер. Смерть же есть разделение души и тела. Есть и другая смерть, которая называется второй, в геенне, но ее мы терпим не из-за греха Адама; она приобретается собственными грехами, для совершения которых он дал повод. От этой смерти добрые освобождены, хотя они и находились в аду, но в его высшей, как бы свободной части, поскольку не могли подняться на небеса; ведь они были удерживаемы приговором, данным в Адаме. Этот приговор был стерт в постановлениях смертью Христа. А сам приговор этого постановления заключался в том, чтобы тело каждого человека распадалось на земле, а его душа, удерживаемая узами ада, претерпевала состояние погибели» (Толкование на Послание к Римлянам, 5, 12, 3–4; перевод Д. В. Смирнова26).
Августин
«Теперь уже обратите пристальное внимание и на то, с какой осторожностью вы должны слушать людей подобного рода, когда они рассуждают о крещении младенцев. Они не осмеливаются открыто отрицать для этого возраста купель возрождения и прощение грехов, поскольку христианские уши не смогли бы этого вынести. Однако они продолжают упорно отстаивать и защищать свое мнение, согласно которому телесное потомство не повинно (obnoxiam) в грехе первого человека, хотя, как кажется, они соглашаются с тем, что крещение преподается младенцам для отпущения грехов» (О благодати Христовой и о первородном грехе, 2, 1; перевод Д. В. Смирнова27).
Это не случайное сходство, а признак одной и той же богословской ошибки. Пелагий, стремясь сохранить формальную верность церковной традиции, произносил правильные слова о крещении младенцев «во оставление грехов», но опустошал их смысл своим учением об отсутствии наследуемой вины. Точно так же сегодня, когда мы слышим, что младенцы нуждаются в крещении, но не имеют вины первородного греха, мы должны ясно понимать: перед нами та самая ересь, которую Церковь осудила в лице Пелагия.
Нельзя укрываться за православными формулами, отрицая их существенное содержание. Если младенцы не имеют вины, то зачем им прощение? Если их природа только повреждена, но не виновна, то почему крещение совершается «во оставление грехов»? Эти противоречия обличают пелагианскую сущность такого богословия, сколь бы православным оно ни казалось внешне.
Фульгенций
«Ведь блаженный апостол говорил о безвозмездном милосердии, которым Бог спасает тех, кого хочет, без каких-либо их заслуг, и о справедливом суде, которым Он с безупречной праведностью осуждает остальных. Говоря сперва о младенцах, Исаве и Иакове, он сам поставил перед собой вопрос о том, почему одному из них была безвозмездно дарована любовь по незаслуженному милосердию, а другому справедливо воздано осуждение по заслуженному приговору, хотя обоих связывала вина первородного греха, и они не имели никакой заслуги собственных дел, поскольку еще не родились и еще не сделали ничего доброго или злого». (Об истине предопределения и благодати Бога, 2, 19, 33; перевод Д. В. Смирнова28).
Мысль Фульгенция возносит нас к престолу Божественного правосудия, где милость и суд изливаются не по делам человеческим, но по предвечному изволению. Исав подпадает под праведный гнев Божий не за преступления, которых он еще не совершил, но за вину Адамову, тяготеющую над всем человеческим родом. А Иаков, носитель той же наследственной вины, восхищается из бездны осуждения непостижимым избранием любви – не по заслугам, которых не могло быть у нерожденного, но по неисследимому совету предвечной благодати. Так в судьбе двух братьев, еще не вкусивших ни добра, ни зла, являет себя двойное действие Божие: правосудие, карающее за вменяемую вину Адама, и милость, спасающая без всякой заслуги со стороны человека.
Лев Великий
«Вступает в этот дольний мир Сын Божий, нисходя с небесного престола… Новым же рождением рожден – ибо нерушимое девство не знало похоти, но предоставило сущность плоти. От матери Господа взята природа, но не вина. Создан образ раба без рабского состояния, и новый человек так соединился с ветхим, что и истину рода воспринял, и порок ветхости исключил» (Проповеди, 22, 2; перевод Е. В. Жукова29)
«Да познает же кафолическая вера в смирении Господа славу свою, и да радуется Церковь, которая есть тело Христово, о таинствах своего спасения. Ибо если бы Слово Божие не стало плотью и не обитало с нами, если бы Сам Творец не снизошел в общение с творением и Своим рождением не призвал ветхое человечество к новому началу, царствовала бы смерть от Адама до конца, и над всеми людьми пребывало бы нерушимое осуждение, поскольку по одному только условию рождения для всех была единая причина погибели. Итак, один только среди сынов человеческих Господь Иисус родился невинным, ибо один лишь был зачат без скверны плотского вожделения, став человеком нашего рода, чтобы мы могли стать причастниками Божественного естества» (Проповеди, 25, 5; перевод Е. В. Жукова).
Папа Лев Великий однозначно говорит о вмененной вине первородного греха. Это видно из нескольких ключевых фраз:
1) «Поскольку по одному только условию рождения для всех была единая причина погибели». Здесь прямо утверждается, что само условие рождения (то есть происхождение от Адама) является причиной осуждения.
2) «Над всеми людьми пребывало бы нерушимое осуждение». Важно слово «condemnatio» (осуждение), которое имеет юридический характер и указывает именно на вину, а не просто на повреждение природы.
3) Контраст между Христом и всеми остальными людьми: «Единственный среди сынов человеческих Господь Иисус родился невинным». Это означает, что все остальные рождаются виновными.
Таким образом, для Льва Великого первородный грех – это не просто повреждение природы или наследственная порча, но именно вина, юридическое осуждение, которое распространяется на всех потомков Адама по самому факту их рождения от него.
Григорий Великий
«Если бы он [т.е. Иов] умер сразу, как только вышел из утробы, разве он приобрел бы самой этой погибелью какую-нибудь заслугу, предполагающую воздаяние? Разве умершие в утробе младенцы наслаждаются вечным покоем? Ведь всякий, кто не освобожден водой возрождения, удерживается связанным виной первых уз. Причем то, что у нас ныне имеет силу сделать вода крещения, у древних для младенцев делала одна лишь вера, для взрослых – сила жертвоприношения, а для тех, кто происходили из рода Авраама, – таинство обрезания. О том, что каждый человек зачинается с виной первого родителя, свидетельствует пророк, говоря: “Вот, в беззакониях я зачат” (Пс. 50:7). А о том, что тот, кого не омыла спасительная вода, не избежит наказания за первородную вину, открыто утверждает сама Истина, говоря: “Если кто не родится от воды и Духа Святого, не будет иметь жизни вечной” (ср.: Ин. 3:5)» (Нравственные толкования на Книгу Иова, 4, предисловие, 3; перевод Д. В. Смирнова30).
Григорий уточняет, что первородный грех нельзя рассматривать только как наказание (например, смертность и страдания). Грех Адама оставил в людях вину, которая делает их ответственными перед Богом.
Григорий Великий подчеркивает, что первородный грех – это не просто состояние повреждённой природы или наказания, но и вина, передающаяся каждому человеку от Адама.
Профессор А.В. Иванов
Интересно, что когда православные богословские институты получили достаточное развитие, когда профессора стали всерьез воспринимать монументальные работы своих западных коллег, то они уже не могли отмахнуться от очевиднейших истин Писания так просто, не погрешая против научной достоверности. Это был период середины и конца XIX века. Вот, например, что пишет православный богослов, профессор Александр Васильевич Иванов (1837–1911):
«Чтобы показать, каким образом заслуги Иисуса Христа вменяются нам, Апостол представляет всё Человечество как нечто органически целое, в котором действия и свойства одного члена, одного человека сообщаются и другим членам, находящимся с ним в каком-либо родстве. Разительный пример этого представляет грех первого человека. Согрешил один человек, и между тем грех этот, а с ним и смерть, перешли ко всем людям. И что особенно замечательно, смерть царствовала над людьми и до Моисея, хотя Закона еще не было, и потому не должно было быть и вменения греха (Рим. 5:12–14). Это должно доказывать, что подсудность человека и смерть зависела не от личной неправедности его, а была наследственна. Так может сделаться наследственною и праведность и жизнь, приобретенная заслугами Единого Иисуса Христа (Рим. 5:15–19). Как Закон пришёл после и только для того, чтобы умножить преступление, так и благодать явилась в изобилии, чтобы умножить праведность (Рим. 5:20–21).
Стих 12. «В нем же вси согрешиша» (ἐφ’ ᾧ). В первом человеке все согрешили, потому что все были в нём. Возможность совершения такого греха всеми людьми в одном человеке со стороны естественной объясняется происхождением всех людей и по телу и по душе от одной четы. По выражению Оригена, Адам как бы в зародыше, в семени (in potentia) носил в себе всё Человечество: и как он, так и каждый из потомков его, «роди сына по виду своему и по образу своему» (Быт. 5:3). Со стороны юридической возможность передачи греха от одного человека всем его потомкам объясняется тем, что Адам был представитель всех людей, в лице котораго Бог заключил Свой Завет со всем Родом Человеческим. Такую именно передачу греха доказать важно было для мысли Апостола (1 Кор. 15:22); посему неправильно Пелагий и другие принимали “ἐφ’ ᾧ” в значении подобно, как ниже (Рим. 5:14): “ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι”, делая таким образом первородный грех не наследственным, а личным. Учение о первородном грехе, находящееся в тесной связи с догматом об Искуплении, с самых первых времён было исповедуемо Церковью и яснейшим образом выражено в Церковной практике, в крещении младенцев, но особенно оно было раскрыто и определённо выражено на Поместном Карфагенском Соборе 418 года – по случаю появления ереси Пелагия, прямо отвергавшего это учение» (Руководство к изучению Нового Завета31).
Мы видим, что в данном случае профессор Иванов прямо передает учение о вменении вины потомкам Адама. Он прямо цитирует Августина и ссылается на антипелагианскую полемику. Также, прямо обращает внимание на так называемый юридический аспект наследования вины, при этом использует греческий оригинал, а не латинский перевод.
Соборы
Диоспольский собор (415)
Августин сообщает об оглашенных на Диоспольском соборе тезисах, извлеченных из некоего сочинения Целестия, ныне утраченного:
«Далее были предъявлены Пелагию как обвинения другие наиболее важные главы Целестия, несомненно, подлежащие осуждению; если бы Пелагий не анафематствовал их, то он сам, без сомнения, был бы осужден вместе с ними… В третьей главе Целестий писал, что “благодать Бога и Его помощь не подаются нам для отдельных действий, но заключаются в свободном решении, или в законе и учении”; и еще, что “благодать Бога дается в соответствии с нашими заслугами, поскольку Бог показался бы несправедливым, если бы дал ее грешникам”; и он сделал вывод такими словами: “Поэтому и сама благодать помещена в моей воле; она зависит от того, буду ли я достоин или недостоин”… Теперь, после этого суда, если мы станем оспаривать такого рода изречения, мы, конечно же, будем вести спор против уже осужденной ереси» (О деяниях Пелагия, 14. 30).
В свете постановлений Диоспольского собора 415 года современное православное учение о синергии и стяжании благодати предстает как трагическое возрождение осужденной ереси. Как весенние воды размывают древний фундамент, так полупелагианские тенденции подтачивают основы евангельского благовестия.
Когда православное богословие утверждает принцип «дай кровь и прими дух», оно вторит осужденному учению Целестия о благодати, даруемой по заслугам. В этой формуле человеческий подвиг становится условием излияния благодати, словно смертный может поставить условия Вечному. Сама мысль о том, что благодать может быть «стяжана» через аскетические усилия, есть не что иное, как утонченная форма древнего заблуждения.
Учение об обожении через подвиг разбивается о камень соборного определения. Если Целестий был осужден за утверждение, что «благодать должна даваться по заслугам», то как может устоять православная доктрина о стяжании благодати через аскетические труды? В обоих случаях благодать превращается из свободного дара в награду за человеческие достижения.