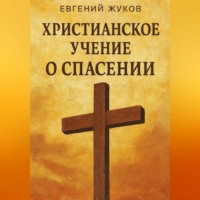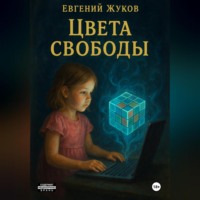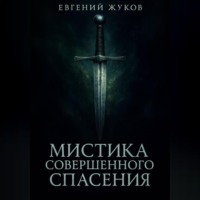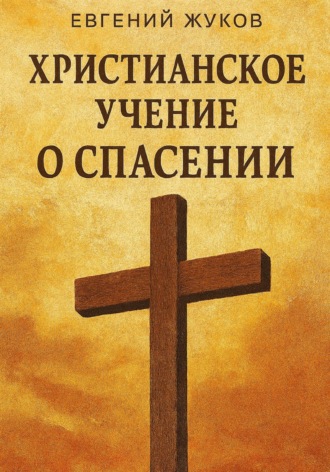
Полная версия
Христианское учение о спасении
Особенно показательно утверждение Целестия о том, что благодать содержится в свободной воле. Разве не то же самое утверждает православная синергия, где человеческая воля предстает как независимый соработник благодати? Здесь древняя ересь облекается в одежды мистического богословия, но суть остается той же: человек становится распорядителем благодати.
Карфагенский собор (418)
«Всякий, кто отвергает, что младенцам, недавно [происшедшим] из материнской утробы, надлежит принимать крещение, или кто говорит, что они принимают крещение для отпущения грехов, однако не заимствуют от Адама ничего, относящегося к первородному греху, что и очищается купелью возрождения, – и вследствие этого чин крещения для отпущения грехов понимается применительно к младенцам [уже] не в истинном, а в ложном смысле, – таковой да будет анафема.
Ведь то, что говорит апостол: через одного человека грех вошел в мир, и через грех смерть, и таким образом перешел во всех людей, в котором все согрешили, следует понимать не как-то иначе, но только таким образом, каким это всегда понимала повсюду распространившаяся кафолическая Церковь. Итак, в соответствии с этим правилом веры, младенцы, которые сами по себе еще не могли совершить никакого греха, также вполне истинно все принимают крещение для отпущения грехов, чтобы посредством возрождения в них очистилось то, что они заимствовали по происхождению [от Адама]».
Оранжский собор (529)
«Если кто утверждает, что преступление Адама повредило только ему одному, но не повредило также и его потомству, или заявляет, что в действительности через одного человека на весь человеческий род перешла только телесная смерть, являющаяся наказанием за грех, но не перешел также и грех, являющийся смертью души, – таковой припишет несправедливость Богу и будет противоречить апостолу, говорящему: Через одного человека грех вошел в мир, и через грех смерть, и таким образом перешел во всех людей, в котором все согрешили» (Глава 2).
Как мы пониманием, наказание может быть только там, где есть вина. Равно как и справедливость в наказании может быть только при наличии вины.
«Если кто утверждает, что человек силами [собственной] природы может с пользой помыслить или избрать нечто благое, относящееся к спасению и вечной жизни, либо может согласиться со спасительной, то есть евангельской, проповедью, [причем это происходит] без просвещения и вдохновения Святого Духа, Который подает всем наслаждение при согласии с истиной и при вере в нее, – таковой обманывается еретическим духом».
Это как раз адресовано пелагианскому учению, утверждающему, что «вера – это дар человека Богу» (Глава 7).
«[Свободное] решение воли, ставшее немощным у первого человека, не может быть восстановлено иначе, как благодатью крещения; то, что было потеряно [человеком], может вернуть [ему] только Тот, Кто [прежде] дал [ему] это; поэтому Сама Истина говорит: Если Сын освободит вас, тогда вы истинно будете свободны» (Глава 17).
Это также ответ пелагианскому учению, на предмет того, что человек сохраняет полностью свободу к спасающему добру.
«Бог делает в человеке много добра, которого не делает сам человек, однако человек не делает никакого добра, которое Бог не дарует человеку сделать» (Глава 20).
«Ни у кого нет ничего своего, кроме лжи и греха; если же человек обладает чем-то, относящимся к истине и праведности, то это происходит из того источника, к которому мы должны с жаждой устремляться в этой пустыне, чтобы, словно освеженные из него некими каплями влаги, мы не ослабли в пути.
Итак, в соответствии с вышеприведенными изречениями Священного Писания и определениями древних отцов, мы, по благоволению Бога, должны проповедовать и веровать, (1) что свободное решение [воли] было весьма сильно испорчено и ослаблено грехом первого человека, поэтому (2) никто после этого не может ни любить Бога так, как надлежит, ни веровать в Бога, ни делать ради Бога что-либо доброе, если человека не предварит благодать Божественного милосердия. Поэтому мы веруем, (3) что не благом природы, которое было дано [людям] прежде в Адаме, а благодатью Бога была предоставлена та преславная вера, которую имели праведный Авель, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и все древние святые; эту веру, восхваляя их, проповедует апостол Павел.
Мы также знаем и веруем, что (4) уже после пришествия Господа эта благодать не зависит от свободного решения всех тех, кто желают принять крещение, но предоставляется им по щедрости Христа…
Мы также спасительно исповедуем и веруем, (7) что во всяком добром деле не мы полагаем начало, а затем нам помогает милосердие Бога, но Сам Бог первым внушает нам без всяких [наших] предшествующих добрых заслуг и веру, и любовь к Себе, чтобы мы и стремились по вере к таинству крещения, и после крещения могли исполнять с Его помощью то, что Ему угодно» (Глава 27)32.
Глава
II
. Гнев
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1:18–32).
Предисловие
В бездонной глубине падшего человечества лежит камень преткновения, о который разбиваются волны самодостаточности и гордости. Первородный грех – не просто древняя богословская концепция, но живая реальность, пульсирующая в каждой человеческой судьбе. Невозможно постичь масштаб Божественного негодования, открывающегося с небес на всякое нечестие, не углубившись в корни трагедии, произошедшей на заре человеческой истории. Адамово падение – это не изолированное историческое событие, оставшееся в тени веков, но космическая катастрофа, отголоски которой слышны в каждом биении сердца, в каждом вздохе человечества.
Вмененная вина Адама – не просто юридическая фикция в Божественном судопроизводстве, но онтологическая реальность, пронизывающая все бытие человека. Подобно тому, как корни дерева, уходящие в отравленную почву, передают яд каждой ветви, каждому листку, так и корень человеческого рода передал горечь своего отступления всем потомкам. Не по произволу Божественной власти, но по неумолимой логике сотворенного бытия распространился яд греха, растекаясь по артериям человеческого рода.
В свете откровения гнева Божия первородный грех предстает не как абстрактное богословское построение, но как фундаментальная диагностика человеческого состояния. Без этого диагноза лечение остается поверхностным, не затрагивающим корень болезни.
Апостол Павел, начиная свое послание с открытия гнева Божия, строит величественную арку богословской мысли, основание которой – не первородный, а личный грех. Не случайно апостол погружается в бездну человеческого нечестия прежде, чем возвести взор к вершинам Божественной благодати. Ибо глубина падения определяет высоту спасения.
В главах 1–3 Послания к Римлянам апостол Павел разворачивает беспощадную диагностику человеческого состояния. Он рисует поражающую своей правдивостью картину нравственного падения человечества – сначала языческого мира (глава 1), затем самоправедного иудейства (глава 2), и, наконец, выносит вселенский приговор: «Нет праведного ни одного» (Рим. 3:10).
Личные грехи, столь ярко изображенные апостолом в 1-й главе, представляют собой не изолированные акты плохого выбора, но системные проявления глубинной поврежденности человеческой природы. Они являются неизбежным следствием первородного греха – того изначального разрыва с Богом, который лишил человечество направляющей и укрепляющей благодати.
Апостол указывает на причинную связь между отвержением Бога и нравственным разложением: «Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства» (Рим. 1:28). В этом «предании» обнаруживается действие Божественного гнева, который проявляется не в произвольном наказании, но в закономерном удалении благодати от тех, кто отверг ее источник.
Человек, лишенный благодати вследствие первородного греха, не обладает внутренними ресурсами для жизни в святости. Он может проявлять отдельные добродетели, производить впечатляющие нравственные поступки, но неспособен к системной праведности, к целостному соответствию Божественному закону.
Эта неспособность не отменяет ответственности – парадоксальным образом человек свободно совершает то, что не может не совершить. Его выбор реален, но предопределен внутренней испорченностью. Как раб, который добровольно остается в рабстве, так грешник свободно избирает свои оковы.
История человечества знает множество примеров выдающихся добродетелей среди язычников и ветхозаветных праведников. Благородство Сократа, мудрость Сенеки, верность Руфи, мужество Даниила – эти и многие другие примеры свидетельствуют о том, что образ Божий в человеке не уничтожен полностью.
Однако эти проявления добродетели, при всей их ценности, не преодолевают фундаментального разрыва между человеком и Богом. Даже самые праведные из людей не достигают абсолютного стандарта святости. Как утверждает Писание: «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23).
Библейское учение указывает на радикальное следствие греха: «Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). Для вынесения этого приговора достаточно единственного преступления. Подобно тому, как разбитое зеркало не может отражать совершенный образ, так и душа, пораженная хотя бы одним грехом, утрачивает способность к истинному богообщению.
Эта строгость Божественного стандарта не является произвольной жестокостью, но отражает саму природу святости, не допускающую никакого компромисса с грехом. Как одна капля яда может отравить весь сосуд с водой, так один грех поражает всю личность, все ее отношение с Богом.
Логика, раскрытая апостолом Павлом в первых главах Послания к Римлянам, ведет к неизбежному выводу: человек не может спасти себя сам. Никакое нравственное самоулучшение, никакое религиозное рвение не способно преодолеть пропасть, созданную грехом. Только сверхъестественное вмешательство, только незаслуженная благодать может изменить фундаментальное состояние человека.
И именно к этому вмешательству – к искупительной жертве Христа – ведет апостол свою мысль, подготавливая читателя к восприятию благой вести о спасении через веру. Только осознав глубину своего падения, человек может оценить высоту Божественного дара.
Апостол Павел в первых главах Послания к Римлянам разворачивает перед нами панораму человеческого нечестия, рисуя картину личных грехов с беспощадной ясностью. Языческий мир погружен во мрак идолопоклонства, иудейский – в трясину самоправедности. Арена истории предстает как поле битвы, где каждый человек своими поступками возводит баррикады против Творца.
Однако в этой мрачной симфонии грехопадения звучит глубинный вопрос: почему картина столь универсальна? Откуда эта поразительное единодушие в отступлении от Бога? Почему небесный приговор так категоричен: «Нет праведного ни одного»?
Здесь обнаруживается парадокс апостольской мысли. Описывая явление, Павел начинает с видимого – личных преступлений. Но, исследуя причину, он восходит к невидимому – первородному греху. Как опытный врач, он сначала описывает симптомы болезни, чтобы затем указать на ее глубинную природу.
Между 1-й и 5-й главами Послания к Римлянам существует не хронологическая, но логическая связь. Плоды предшествуют в описании, но корни первичны в бытии. Мы сначала видим действия греха в истории, чтобы затем постичь его исток в метаистории.
Состояние вражды, о котором говорит апостол, не просто результат множества неправильных выборов. Напротив, эти выборы – неизбежное следствие глубинного отчуждения от Источника жизни. Человек не потому враг Богу, что грешит; он грешит потому, что уже находится в состоянии вражды.
В этом заключается глубочайшая трагедия человеческого бытия: мы не просто совершаем отдельные преступления против небесного закона, но носим в себе закон противления Богу. Не отдельные поступки, но само устроение человеческого существа подверглось катастрофической деформации.
В богословской мысли Павла личный и первородный грех не противостоят, но дополняют друг друга в страшной диалектике падения. Первородный грех создает онтологические предпосылки, а личный грех – их экзистенциальное воплощение. Один действует как глубинный принцип, другой – как его конкретная манифестация.
Потому так важно начать повествование с первородного греха, хотя апостол в своем послании движется от личного к первородному. Ибо в порядке познания мы восходим от очевидного к сокрытому, но в порядке бытия именно сокрытое порождает очевидное.
И здесь раскрывается величайшая тайна Евангелия: Бог не отменяет Свой гнев, но берет его на Себя.
Не устраняет пропасть между святостью и грехом, но перекрывает ее крестом. Не объявляет грех незначительным, но платит за него высочайшую цену.
Таким образом, начав с первородного греха прежде рассмотрения личных преступлений, мы обретаем ключ к пониманию всей сотериологии апостола Павла. Не случайно апостол в 5-й главе переходит от Адама к Христу, от первого человека ко второму, от источника проклятия к источнику благословения.
Павел настаивает: «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). Этот приговор не знает исключений, не допускает градаций. Он указывает не на количественное различие в грехах, но на качественное состояние всего человечества перед лицом святого Бога.
Бог, будучи источником всякой жизни, святости и блага, по самой Своей природе противостоит всему, что отрицает эту жизнь и это благо. Его гнев – не эмоциональная реакция, подобная человеческому раздражению, но онтологическое противление всякому искажению изначального порядка творения.
В лабиринтах современной православной мысли теряются драгоценные жемчужины апостольского богословия. Утренний свет Посланий апостола Павла затмевается сумеречным туманом псевдо-восточной сентиментальности. Там, где апостол громом обрушивает истину о Божественном гневе, византийские эпигоны шепчут об энергиях и синергии, о восхождении и обожении.
Пелагианская струя, пробившаяся сквозь плотину соборных анафем, разлилась широким потоком в восточном богословии. Она принесла с собой иллюзию человеческого достоинства, мираж нравственной самодостаточности, призрак свободы, не сокрушенной грехом. В этой системе координат Божественный гнев становится досадным недоразумением, литературным преувеличением, метафорой, которую следует поскорее истолковать до полного исчезновения.
Как может гневаться Творец на творение, если творение сохранило в себе искру добра? К чему удовлетворение правосудия, если нет преступления, достойного вечной смерти? Зачем искупление, если человек способен сам взобраться по лестнице добродетелей к престолу Всевышнего?
Православное богословие, увлеченное неоплатоническими категориями, вытеснило юридические образы Писания на периферию своей рефлексии. «Гнев», «удовлетворение», «оправдание», «искупление» – эти термины заклеймлены как «западные», как будто географическая привязка может умалить их богодухновенность. Само слово «запад» в церковной риторике превратилось в ярлык, указывающий на богословскую порчу, на трещину в фундаменте, на измену апостольской вере.
Но чьи же это термины на самом деле? Не Ансельма Кентерберийского, не Фомы Аквинского, не Мартина Лютера. Это лексикон апостола Павла. Это его образный строй, его система координат, его богословская парадигма.
Отвергая «юридическое» понимание спасения, восточное богословие невольно отвергает не средневековую схоластику, но апостольский способ мышления. В стремлении защитить теплоту Божественной любви от холода закона, оно жертвует целостностью богооткровенной истины.
Когда из уст церковных апологетов звучат обвинения в адрес «западного» боговидения, якобы зараженного римской юриспруденцией, юридизмом и законничеством, в противоположность «восточной» традиции чистой любви, не знающей ни суда, ни закона – эти слова вызывают духовное отторжение. Этот риторический прием не просто искажает историю богословской мысли, но извращает самую суть Евангелия.
Профессор А. И. Осипов с кафедры утверждает: «Бог есть любовь и только любовь». Красота этой фразы подкупает своей эмоциональной теплотой. Однако это утверждение представляет собой опасную редукцию библейского откровения. Да, Бог есть любовь. Но Он также свят, праведен, и – да! – гневен по отношению к греху.
Полнота нашего знания о Боге черпается не из философских интуиций, не из мистических созерцаний, но из корпуса текстов, собранных под одним переплетом – Библии. И апостол Павел, чье богословие составляет сердцевину Нового Завета, ставит гнев Божий в начало своего величайшего богословского трактата: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие» (Рим. 1:18).
В пелагианской системе, где человеческая природа сохраняет свою фундаментальную доброту, а грех понимается как болезнь, но не как смерть – гнев Божий становится излишним элементом, нарушающим гармонию теологической конструкции. Если человек способен собственными силами, пусть даже с помощью Божественной энергии, подняться из праха, то искупление превращается не в необходимость, но в один из возможных путей спасения.
Православие, формально отвергая пелагианство, фактически впитало его антропологический оптимизм. Отсюда проистекает минимизация значения гнева и искупления. Если человек от природы сохраняет способность к добру, может сам прийти к Богу и вере, сам (хотя и с помощью благодати как духовной энергии) участвовать в своем спасении – тогда гнев Божий и примирение через кровь Христову становятся периферийными, непонятными, необязательными элементами сотериологии.
Между тем, апостольская логика неумолима: если все согрешили и лишены славы Божией, если возмездие за грех – смерть, если человек мертв по преступлениям и грехам, то спасение возможно только через искупительную жертву, удовлетворяющую требования Божественной справедливости.
Отбросим ли мы павловскую логику повествования и богословия ради мнимой «любвеобильности» Востока, противопоставленной холодному западному разуму (ratio) и закону (lex)? Пожертвуем ли ясностью апостольской мысли ради туманных спекуляций византийских мистиков?
Не трагедия ли это – когда Церковь, призванная хранить апостольское предание, вытесняет апостольские категории мышления на периферию своего богословия? Не измена ли это – когда слова «гнев Божий» вызывают смущение у православных богословов, хотя именно с этих слов апостол начинает объяснение благой вести?
Возвращение к истокам апостольского богословия – вот насущная задача современной православной мысли. Не отрицание «западных» категорий, но признание их библейского происхождения. Не изгнание юридических образов, но восстановление их в полноте богооткровенного смысла. Не противопоставление любви и гнева, но понимание их таинственного единства в Божественной природе.
Только тогда православие сможет избавиться от пелагианского наследия и вернуться к целостному восприятию Евангелия, где гнев Божий и любовь Божия не противоречат, но дополняют друг друга в непостижимой тайне искупления.
В тенетах православного умозрения утрачена огненная субстанция Павловой керигмы. Там, где громы Синая и молнии Дамаска высвечивают пропасть между тварью и Творцом, византийские софисты плетут вязь эфемерных дистинкций. Где апостол языков возвещает о вулканической мощи Божественного негодования, пурпурные риторы воспевают квиетические экстазы и перихорезы. Где Павел дробит мрамор духовного самодовольства молотом гнева Божия, византийские риторы возводят воздушные замки теозиса.
Те из сынов Адамовых, кого Вседержитель предопределил в Своем предвечном совете к сыноположению, взирают на Библию не как на лампаду, которую достаточно возжечь в субботний день, но как на светильник, озаряющий тьму каждого мгновения их земной юдоли. Для них Писание – не сакральный объект, облаченный в оклады и виньетки, но живое дыхание Духа, проникающее до самых глубин мозга костного.
В этом теофорическом корпусе, запечатлевшем откровение Неизреченного, словосочетание «гнев Божий» раздается более пятисот раз сквозь пергаменты Библии. Это не периферийная тема, не случайная обмолвка богодухновенных авторов, но лейтмотив всей священной истории от Эдема до Армагеддона.
Чтобы постичь архитектонику спасения, проникнуть в лабиринты сотериологии, необходимо сначала осознать, от какой бездны нас отторгла десница Всевышнего. И здесь обнаруживается метафизическая близорукость восточной догматики. Спросите православного богомудра, от чего спасает нас Христос, и услышите сакраментальную формулу: «от греха и смерти».
Формула верна, но в своей абстрактности подобна бронзовому колоколу без языка.
Произнеся эту формулу, мы тотчас низвергаемся в адские глубины антропологической ловушки. Ибо грех, словно левиафан, все еще извергает свой яд в сердцевину нашего существа. А смерть, верховная жрица тления, по-прежнему собирает свою нещадную жатву, не делая исключения ни для патриархов в саккосах, ни для схимников в веригах, ни для иерархов в омофорах.
В этой оптике спасение немедленно испаряется из актуальной реальности и переносится в эсхатологическую потенциальность. Оно становится не данностью, но заданностью, не полученным наследством, но призрачным призовым венцом, который еще нужно заслужить бесчисленными метаниями, утомительными стояниями и стенаниями, изнурительным «озлоблением плоти».
Так совершается роковая транспозиция: спасение из категории обязательного переходит в категорию опционального, из области объективной онтологии – в царство субъективной аскетики. В этой концепции Божественное деяние, совершенное во вневременной полноте, подменяется человеческим усилием, распластанным по оси времени.
И вот что примечательно: в своих богословских прогулках адепт православия обходит стороной огненную тему гнева. Он избегает этой рубрики не по случайности, не по забывчивости, но по глубинному отторжению. Говорить о Боге в категориях гнева кажется ему вульгарным антропоморфизмом, непростительным ляпсусом «западного» мышления. Но для Нового Завета ответ на вопрос «от чего мы спасены» буквален и очевиден: «И ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1 Фес. 1:10), «Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5:9). И что получается, если мы убираем гнев Божий из сотериологии? Очевидно, мы убираем и спасение. Поэтому православный никогда не спасен. Он очень надеется на свои успехи, по которым, его, якобы, помилуют. На свой уровень обожения, на свой уровень «стяжанного Духа». Но раз гнева нет, то нет и Павлова спасения в прошедшем времени или лучше сказать вечном, профетическом перфекте. Он ставит «спасемся» как бы в будущее. Но так как «будучи оправданы Кровию Его» уже совершено, то «спасемся» – это решенный вопрос, хотя и грамматически стоит в будущем времени. Вот что мы получаем раз за разом в православной сотериологии: ничего не произошло, все нужно сделать самому. Нет первородного греха как вины, значит нет и настоящего, случившегося оправдания. Нет гнева, значит нет и уже полученного спасения от него. Как мы увидим, это относится ко всем дальнейшим элементам: нет жертвы, нет креста, нет духовного рождения, нет предопределения и избрания – в итоге что есть? Я покажу это ниже.