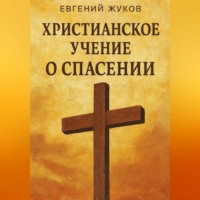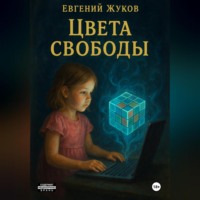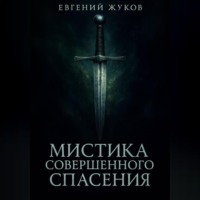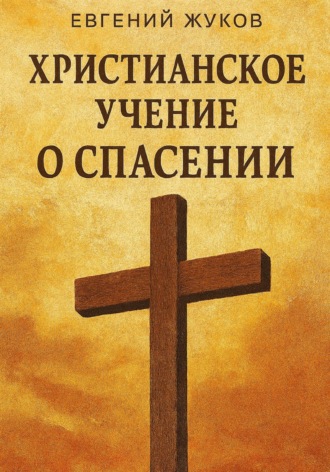
Полная версия
Христианское учение о спасении
Возможные возражения
Возражение 1
Мне могут возразить: «Можно же говорить, что грех это повреждение природы и болезнь, но при этом признавать, что эту болезнь может вылечить только благодать, а не сам человек. Другими словами, можно непротиворечиво утверждать, что природа осталась отчасти доброй, но без благодати к любому добру всегда будет примешиваться некое зло, которое никогда не даст человеку спастись самому. Это вполне последовательная логическая альтернатива учению о «полной испорченности», и эта альтернатива лучше соответствует эмпирическим фактам: нас окружают не одни только злодеи, причем даже атеисты иногда могут сделать нечто доброе».
Отвечу на это так. Действительно, можно признавать относительную способность падшего человека к добрым делам, не отрицая при этом его абсолютной неспособности к самоспасению. Однако суть проблемы лежит глубже.
Дело не в том, может ли падший человек совершать добрые дела (может!), и не в том, насколько сильно повреждена его природа. Ключевой вопрос – в природе самого спасения. Если мы понимаем спасение только как исцеление поврежденной природы, то неизбежно приходим к идее постепенного восстановления через синергию благодати и человеческих усилий. Но апостол Павел говорит о спасении прежде всего как об оправдании от вины и примирении с Богом.
Способность грешника к добрым делам не отменяет того факта, что он находится под осуждением. Даже если бы человек мог творить относительное добро (что он и делает), это не снимает с него вмененной вины Адамовой. Именно поэтому спасение должно начинаться не с исцеления природы, а с оправдания от вины через заместительную жертву Христа.
Таким образом, вопрос не в степени повреждения природы, а в характере спасения. Если спасение – это прежде всего примирение виновного с Богом, то оно может совершиться только через заместительную жертву, а не через постепенное самосовершенствование, каким бы благодатным оно ни было.
Возражение 2
Мне возразят: «Одно дело – исполнять некоторые заповеди. Другое дело – исполнять все заповеди («весь закон»). Первое делать люди могли и до Христа (доказывается эмпирически, не все до одного были убийцами, значит некоторые исполняли заповедь «Не убивай»). Второе (исполнять все заповеди) никто сделать без Христа не мог и не может. Поэтому даже в праведных людях оставались грехи, не допускавшие их к той полноте «спасения», которая возможна только через Христа. Однако люди могли и могут жить лучше или хуже. Отвергать это – значит спорить с фактами, ведь одни люди живут лучше (не убивают), а другие – хуже (убивают сотни людей)».
Я отвечу на это так. Различие в степени нравственного падения людей неоспоримо – одни действительно живут лучше, другие хуже. Однако суть проблемы не в количестве исполненных или нарушенных заповедей, а в качестве самого человеческого существования после грехопадения.
Проблема греха лежит глубже, чем нарушение отдельных заповедей. Даже если человек внешне исполняет заповедь «не убий», он всё равно находится под осуждением вины Адамовой. Более того, само это внешнее исполнение заповедей может быть формой греховного самоутверждения, попыткой установить собственную праведность.
Апостол Павел показывает это на примере своей прежней жизни: «По правде законной – непорочный» (Флп. 3:6), однако именно эта праведность от закона стала для него препятствием к принятию праведности от веры. Внешнее исполнение заповедей не только не приближало его к Богу, но, напротив, укрепляло в греховном состоянии самоправедности.
Такая форма праведности привела Павла к активному богоборчеству – он гнал и преследовал христиан, противясь единому истинному Богу, открывшему себя в Иисусе Христе.
Поэтому Крестная Жертва была необходима не потому, что люди не могли исполнить некоторые заповеди (могли!), а потому что само их существование находилось под осуждением. Требовалось не помощь в исполнении закона, а оправдание от вины и примирение с Богом. Именно эту глубинную проблему решает Крест Христов – не улучшение морального поведения, а изменение статуса человека перед Богом: из осужденного преступника в оправданное чадо.
Критика православного понимания первородного греха
Обратимся теперь к тому, как богословская мысль православного Востока разрабатывает эту тему. Посмотрим, как это ясное и очевидное учение Писания о грехе и духовной мертвости, что в позднем богословии принято называть «тотальным повреждением», искажено в православии.
Закон греховного расстройства
Архиепископ Феофан (Быстров) пишет:
«Изучение это показывает, что святой Апостол ясно различает в учении о первородном грехе два момента: «παράβασις», или преступление, и hamartia, или грех. Под первым разумеется личное преступление нашими прародителями воли Божией о невкушении ими плода от древа познания добра и зла; под вторым – закон греховного расстройства, привзошедший в человеческую природу, как следствие этого преступления.
Когда речь идет о наследственности первородного греха, имеется ввиду не “παράβασις”, или преступление, наших прародителей, за которое ответственны они одни, а “ἁμαρτία”, то есть закон греховного расстройства, поразивший человеческую природу вследствие падения наших прародителей» 1.
Попытка православных богословов объяснить передачу первородного греха через некий «закон греховного расстройства» представляет собой удивительный пример богословской несостоятельности. В стремлении «оправдать» Бога от обвинений в несправедливости они создают метафизическую конструкцию, которая фактически ограничивает Божий суверенитет и противоречит самой идее Бога как Творца и Законодателя.
Представление о «законе греховного расстройства» как о чем-то, действующем автономно от Божьей воли, сравнимом с законами физики, является откровенным абсурдом. Получается, что существует некая сила или принцип, стоящий над Богом, некий «естественный закон», которому даже Бог вынужден подчиняться. Бог в этой схеме предстает как бессильный наблюдатель, который только разводит руками: «Вот, согрешили, и теперь по естественным законам неизбежно должны умереть».
Это представление не только умаляет Божье всемогущество, но и искажает саму природу греха и его последствий. Грех – это не нарушение безличного космического закона, а оскорбление личного Бога, вызывающее Его праведный гнев и суд. Смерть приходит не как автоматическое следствие нарушения некоего метафизического принципа, а как прямое проявление Божьего суда.
Более того, такой подход создает ложное представление о спасении. Если проблема в некоем автономном «законе расстройства», то для спасения нужно было бы просто отменить или обойти этот закон. Но Писание говорит нам о необходимости умилостивления, искупления, примирения с личным Богом – все это предполагает личные отношения, а не механическое действие безличных законов.
Попытка представить последствия грехопадения как действие некоего автономного закона является по сути попыткой деперсонализировать отношения между Богом и человеком, свести их к механистическому взаимодействию причин и следствий. Это типичный пример рационалистического мышления, пытающегося объяснить духовные реальности в категориях природных закономерностей.
В конечном счете, учение о «законе греховного расстройства» является еще одной попыткой уклониться от признания прямой ответственности человека перед личным Богом и Его суверенного права судить Свое творение. Это очередной пример того, как человеческая мудрость пытается «улучшить» библейское откровение, но в результате только искажает его суть.
Удобопреклонность
Когда православные богословы утверждают, что последствием первородного греха является лишь «удобопреклонность ко греху», они фактически воспроизводят ключевой тезис Пелагия почти дословно.
Пелагий учил, что грех Адама повредил человечеству только примером, создав некую «привычку» или «склонность» ко греху. При этом человеческая природа осталась неповрежденной, сохранив полную способность выбирать между добром и злом. По его мнению, теоретически возможно жить без греха, хотя исторически таких примеров (кроме Христа) мы не находим.
Православное учение об «удобопреклонности ко греху» по сути повторяет эту логику:
Человек сохраняет свободу выбора;
Он только «более склонен» ко злу, чем к добру;
Теоретически возможно избрать добро;
Грех не является неизбежным следствием падшей природы.
Однако это прямо противоречит решениям Карфагенского собора 418 года, который анафематствовал тех, кто утверждает:
Что благодать нужна только для познания заповедей;
Что без благодати возможно исполнение заповедей;
Что человек своими силами может избежать греха.
Собор ясно утверждает, что благодать Христова необходима не только для познания добра, но и для:
Желания исполнять заповеди,
Способности их исполнять,
Самого исполнения.
Таким образом, учение о простой «удобопреклонности ко греху» представляет собой уже не скрытую, а открытую форму пелагианства, где:
Отрицается тотальная испорченность человеческой природы;
Сохраняется теоретическая возможность безгрешной жизни;
Благодать рассматривается как помощь, а не как необходимое условие;
Человеческая воля сохраняет автономию в выборе добра.
Это учение несовместимо не только с решениями антипелагианских соборов, но и с самим библейским свидетельством о глубине человеческой греховности и абсолютной необходимости благодати для спасения.
Идолопоклонство
При внимательном анализе православного богословия обнаруживается фундаментальная проблема герменевтического подхода к Священному Писанию. В основе этого подхода лежит не столько искреннее стремление к пониманию Божественного откровения, сколько бессознательное или сознательное служение определенным «идолам» – предустановленным концепциям, которые определяют интерпретацию текста.
В случае греческих отцов церкви таким идолом выступал морализаторский образ Бога, унаследованный из эллинистической философской традиции. Этот образ требовал абсолютной свободы человеческой воли как необходимого условия нравственной ответственности. Отсюда проистекает настойчивое стремление греческих отцов защитить и обосновать человеческую свободу даже ценой искажения ясного библейского учения о первородном грехе.
Этот герменевтический уклон привел к тому, что в центре православного богословия оказались не вменяемая праведность Христа и оправдание по благодати, а человеческие усилия по достижению спасения. По сути, мы наблюдаем здесь своеобразную форму пелагианства, замаскированную под православное учение о синергии. Различие между классическим пелагианством и православным учением оказывается во многом терминологическим, тогда как сущностно оба подхода отводят решающую роль человеческим усилиям в деле спасения.
Ситуация усугубляется тем, что современные православные богословы находятся в ситуации профессиональной зависимости от своей конфессиональной корпорации. Их благополучие – как материальное, так и социальное – напрямую связано с поддержанием определенной богословской традиции. В результате мы наблюдаем не столько искренний поиск истины, сколько изощренную апологетику унаследованных позиций.
Эта ситуация порождает глубокий конфликт между словом Божьим и человеческим преданием. Вместо того чтобы смиренно принять библейское откровение во всей его полноте, богословы либо создают собственный фантомный образ Бога, под который подгоняют библейские тексты, либо сознательно защищают корпоративные интересы своей конфессии, жертвуя истиной ради сохранения институционального статус-кво.
В результате мы имеем дело не с подлинным библейским богословием, а с рационализацией предвзятых позиций, где экзегетика замещается апологетикой, а поиск истины – защитой конфессиональных интересов. Это особенно ярко проявляется в учении о первородном грехе, где ясное библейское учение о реальной вине и вменении праведности Христа подменяется сложными философскими конструкциями, призванными сохранить иллюзию человеческой автономии в деле спасения.
В истории богословской мысли мы сталкиваемся с поразительным феноменом: человек, творение, пытается судить своего Творца и требует от Него оправдания. Само появление теодицеи как богословской дисциплины является симптомом глубокого духовного кризиса – человек ставит себя в положение судьи над Богом, требуя объяснений Его действий в соответствии с человеческими представлениями о справедливости.
Эта претензия особенно ярко проявляется в вопросе первородного греха. Православные богословы, движимые желанием «защитить» Бога от обвинений в несправедливости, создают сложные теории, объясняющие, почему наследование греха Адама якобы не противоречит справедливости. При этом они не замечают кощунственности самой попытки оправдать Бога перед человеческим судом.
В Священном Писании мы встречаем множество случаев, когда человек дерзает вопрошать о справедливости Божиих путей. Иов требует объяснения своих страданий, Давид взывает о невинных овцах, гибнущих за его грех, Иеремия недоумевает о благоденствии нечестивых, Аввакум вопрошает о торжестве зла, Иона негодует о помиловании Ниневии. Но каждый раз ответ Божий сводится к одному: «Мои пути – не ваши пути». Апостол Павел доводит эту истину до предельной ясности: «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Всякая попытка поставить Божественную правду перед судом человеческого разума встречает в Писании решительное осуждение, ибо как небо выше земли, так пути Господни превышают наше разумение.
Вот самые яркие библейские примеры, где человек пытается судить о справедливости Божиих действий и получает отповедь:
Книга Иова – классический пример. Иов требует от Бога объяснений своих страданий: «Покажи мне, за что Ты со мною борешься?»(Иов. 10:2) Но Господь отвечает ему вопросом: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь» (Иов. 38:4).
Апостол Павел в Послании к Римлянам прямо обращается к этой теме: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: “Зачем ты меня так сделал?” Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» (Рим. 9:20–21).
Пророк Иеремия вопрошает о благоденствии нечестивых: «Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен?» (Иер. 12:1).
Пророк Аввакум недоумевает о Божием попущении зла: «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия?» (Авв. 1:3). Но получает ответ: «Праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4).
История Ионы показывает пророка, спорящего с Богом о справедливости помилования Ниневии: «О, Господи! не это ли говорил я, когда еще был в стране моей?» (Иона 4:2). Но Господь отвечает ему притчей о растении, показывая ограниченность человеческого понимания справедливости.
Вопрос Давида: «Вот, я согрешил, я поступил беззаконно; а эти овцы, что сделали они? да будет же рука Твоя на мне» (2 Цар. 24:17), остается без ответа. Царь пытается указать Богу на «несправедливость» наказания невинных за его личный грех. Это тот же самый вопрос, который задают православные богословы относительно первородного греха: как могут быть наказаны потомки за грех Адама, если они лично не согрешили? Как справедливый Бог может наказывать невинных?
Однако в Библии мы не находим ответа на эти вопросы. Бог не объясняет Давиду принцип коллективной ответственности, не оправдывается перед ним, не доказывает справедливость Своих действий. Само желание судить о справедливости Божиих путей, требовать от Него отчета – есть проявление греховной гордыни.
Так же как попытка Давида апеллировать к справедливости не отменила наказания народа, так и все богословские усилия «оправдать» действия Бога в вопросе первородного греха являются проявлением того же самого греховного стремления поставить Божественную правду перед судом человеческого разума.
Во всех этих случаях ответ Божий заключается не в рациональном объяснении Его действий, а в указании на несоизмеримость Божественной премудрости и человеческого разумения. Попытка «оправдать» Бога перед судом человеческого разума всегда встречает в Писании решительное осуждение.
«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8–9).
Это провозглашение абсолютной трансцендентности Божественной премудрости становится как бы рефреном всего Писания. Как невозможно земными мерками измерить высоту небес, так невозможно человеческим разумом постичь или оценить справедливость путей Господних.
Вместо того чтобы смиренно принять Божественное откровение о всеобщей виновности человечества в Адаме, богословы конструируют собственный образ «справедливого» Бога, соответствующий человеческим представлениям о справедливости. Этот рукотворный бог не может вменить вину Адама его потомкам, потому что это «несправедливо» по человеческим меркам. Он не может предопределить одних к спасению, а других оставить, потому что это не соответствует человеческим представлениям о равенстве.
Такой подход обнаруживает глубинное непонимание или неприятие Божественного суверенитета. Творение пытается установить границы для действий Творца, определить, что Он может, а что не может делать. Это есть не что иное, как проявление того же греха гордыни, который привел к падению первых людей – желание быть «как боги», определяющие добро и зло.
В результате православное богословие создает образ предсказуемого, управляемого бога, действующего по понятным человеку правилам. Этот бог не может спасать по одной лишь благодати – это было бы «несправедливо». Он обязан дать каждому человеку равные возможности и учитывать его заслуги. Такой бог становится удобным объектом для религиозных манипуляций, ведь его действия можно просчитать и на них можно влиять.
Создав образ контролируемого и предсказуемого бога, православная традиция неизбежно скатывается в практическое идолопоклонство – целую систему религиозной магии, замаскированной под христианское богослужение. Благодать начинает восприниматься как некая безличная сила, которой можно манипулировать через определенные ритуальные действия. Святой Дух это уже не Личность, не Лицо Троицы, но расходный материал: его можно получить, приобрести, накопить, растратить, потерять. Это магическая сила – мана у шаманов или космическая энегрия ци у китайцев и прана у индусов.
Таинства из знаков благодати превращаются в магические обряды, где правильное исполнение ритуала гарантирует определенный духовный результат.
Особенно показательно отношение к иконам, которые фактически становятся языческими фетишами. Им приписываются чудотворные свойства, их носят крестными ходами, ими освящают пространство и предметы, через них якобы исцеляются болезни. Некоторые иконы становятся настоящими религиозными «знаменитостями», совершающими турне по стране подобно поп-звездам. Для языческого сознания было очень важно бога видеть, осязать, управлять им, переносить с места на место. При этом полностью игнорируется вторая заповедь, запрещающая создание изображений для поклонения.
Параллельно развивается система психофизических практик, называемых «умным деланием» или «исихазмом», где через определенные техники дыхания и медитации человек якобы может управлять действием благодати. Это прямое наследие языческих мистических практик, где человек пытается техническими средствами достичь общения с божеством.
В результате формируется целая система религиозной коммерции, где благодать становится предметом торговли. ее можно заработать постами и молитвами, купить пожертвованиями, получить через поклонение определенным святыням. Бог превращается в партнера, в одного из контрагентов, по религиозной сделке, где человек предлагает свои духовные или материальные усилия в обмен на благодать. Это объясняет мегапопулярность бестселлера «Беседа Мотовилова с преп. Серафимом» где не просто говорится о торговле, но торговле «с барышом», то есть о валовой и чистой прибыли в такой торговле.
Таким образом, отвержение библейского учения о суверенном даровании Богом благодати и попытка создать «справедливого» бога приводят к полному извращению христианства. Вместо поклонения живому Богу в духе и истине мы получаем сложную систему религиозного магизма, где человек пытается манипулировать божеством через установленные им самим ритуалы и практики.
Особенно трагично, что эта система полностью затемняет евангельскую весть о спасении по благодати через веру. Человек оказывается замкнут в бесконечном круге религиозных упражнений, никогда не достигая уверенности в спасении, потому что оно всегда зависит от его собственных усилий, а не от совершенного дела Христа.
Справедливость
Попытка защитить «справедливость» Бога в вопросе первородного греха приводит православных богословов к неразрешимому противоречию. Отрицая возможность вменения вины Адама его потомкам как якобы «несправедливую», они сталкиваются с гораздо более сложным вопросом: почему «справедливый» Бог установил закон наследования поврежденной природы?
Если мы следуем логике православных богословов, то получается следующая картина: Бог не может вменить вину Адама его потомкам, потому что это было бы «несправедливо» – дети не должны отвечать за грехи отцов. Однако тот же самый Бог устанавливает закон, по которому все потомки Адама неизбежно наследуют поврежденную природу. Возникает вопрос: в чем провинились дети Адама, чтобы получить такое наследство?
Более того, если Бог действительно руководствуется человеческими представлениями о справедливости, почему Он не дает каждому человеку такой же шанс, какой получили Адам и Ева? Почему каждый младенец не рождается в том же состоянии невинности и бессмертия, с возможностью сделать собственный выбор? Если вменение вины несправедливо, то разве не столь же несправедливо обрекать людей на рождение в состоянии поврежденной природы?
Православное богословие не может дать удовлетворительного ответа на эти вопросы, потому что сама попытка судить Бога по человеческим меркам справедливости ведет в тупик. Если мы начинаем оценивать Божественные действия с позиции человеческой справедливости, мы должны признать, что установление закона наследования поврежденной природы ничуть не более «справедливо», чем вменение вины.
Единственный выход из этого противоречия – признать, что Божественная справедливость превосходит человеческое понимание, и смиренно принять библейское откровение о реальности как вмененной вины, так и унаследованной поврежденной природы. Попытка «защитить» Бога от обвинений в несправедливости только создает новые, еще более серьезные богословские проблемы.
Таким образом, православная попытка «оправдать» Бога, отрицая вменение вины, приводит к гораздо более серьезным богословским проблемам, чем те, которые она пытается решить. Она не только не защищает Божественную справедливость, но и подрывает самые основы христианского учения о спасении.
Крещение
Если мы следуем православной логике, получается следующая цепочка утверждений:
Первородный грех – это не вмененная вина, а только повреждение природы.
Основное проявление этого повреждения – грех и смертность.
Крещение исцеляет это повреждение природы.
Так как в православии в практическом аспекте, то есть в практике верующих, нет примирения, оправдания, второго рождения, предопределения и избрания, уверенности в спасении, то, спрашивается, в чем сила крещения? Зачем оно вообще нужно? Православные богословы пытаются разрешить это противоречие, говоря о «потенциальном» исцелении природы, которое полностью реализуется только в воскресении. В итоге, крещение это начаток и семечка, которую верующий развивает сам, с помощью благодати, которая является ведомой человеческим усилием. Какой конечный результат и какова цель такой синергии, каково, конечно, условие спасение? Определенного ответа на этот вопрос нет. Лучший ответ у епископа Игнатия (Брянчанинова). По его мнению, те из православных христиан, кто полностью очистили себя от страстей, попадают в рай. Остальные христиане, которые не успели принести достойные плоды покаяния за какой-либо грех или не очистили себя от страстей, идут в ад. Впрочем, получают там облегчение по молитвам Церкви.
«Христиане, одни православные христиане, и притом проведшие земную жизнь благочестиво или очистившие себя от грехов искренним раскаянием, исповедью пред отцом духовным и исправлением себя, наследуют вместе с светлыми Ангелами вечное блаженство. Напротив того, нечестивые, то есть неверующие во Христа, злочестивые, то есть еретики (протестанты, католики и проч.), и те из православных христиан, которые проводили жизнь в грехах или впали в какой-либо смертный грех и не уврачевали себя покаянием, наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами. Патриархи Восточно-Кафолической Церкви в послании своем говорят: “Души людей, впавших в смертные грехи, и при смерти не отчаявшихся, но еще до разлучения с настоящею жизнью покаявшихся, только не успевших принести никаких плодов покаяния, каковы: молитвы, слезы, коленопреклонения при молитвенных бдениях, сокрушение сердечное, утешение бедных и выражение делами любви к Богу и ближним, что все Кафолическая Церковь с самого начала признает богоугодным и благопотребным, – души таких людей нисходят во ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды облегчения от них. Облегчение же получают они по бесконечной благости, чрез молитвы священников и благотворения, совершаемые за умерших, а особенно силою Бескровной Жертвы, которую в частности приносит священнослужитель для каждого христианина о его присных, вообще же за всех повседневно приносит Кафолическая Апостольская Церковь”» (Слово о смерти)2.