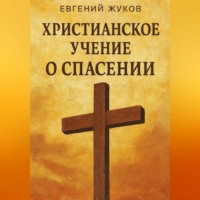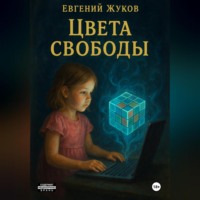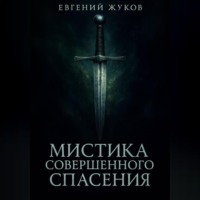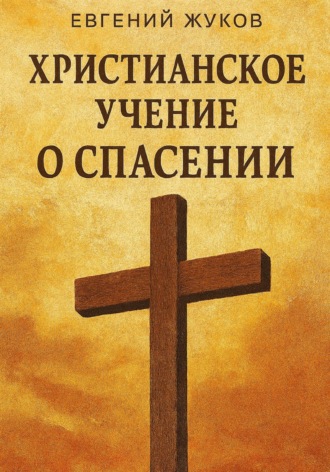
Полная версия
Христианское учение о спасении
Перед нами не просто богословские разногласия, а совершенно иная религиозная система, чуждая самой сути евангельского благовестия. В православном исповедании нет ни одного из тех оснований, на которых зиждется христианская вера:
Нет рождения свыше, дарующего непоколебимую уверенность в усыновлении Богом. Нет оправдания кровью Христовой, очищающей от всякого греха. Нет избрания и предопределения к вечной жизни. Нет твердого упования на завершенное дело искупления. Вместо этого – бесконечная лестница самосовершенствования, где спасение зависит от степени очищения от страстей, от количества принесенных плодов покаяния, от молитв священников и бескровных жертв.
Как может человек, рожденный от Бога, предопределенный к усыновлению, омытый кровью Христа, запечатленный Духом Святым, все еще нуждаться в «облегчении мук» через молитвы и жертвоприношения? Как может чадо Божие, имеющее внутри себя свидетельство Духа о своем усыновлении, все еще страшиться вечных мук за «неочищенные страсти»?
Это не христианство апостолов, положивших в основание Церкви благую весть о совершенном спасении через веру во Христа. Это религия бесконечного самосовершенствования, где никто и никогда не может быть уверен в своем спасении, ибо оно зависит не от законченного дела Христа, а от степени личного преуспеяния в борьбе со страстями.
Это показывает, что попытка православного богословия избежать учения о вине Адама и праведности во Христе приводит к неразрешимым противоречиям в учении о крещении. Стремясь сделать учение более «рациональным» и «справедливым», они создают систему, которая не соответствует ни библейскому откровению, ни очевидной реальности.
Однако Библия и Церковь учат нас иначе. В священных водах крещения свершается великое чудо искупления: тяготеющее над человечеством проклятие Адамово встречается с искупительной жертвой последнего Адама. Здесь, в таинственных глубинах крещальных вод, вина праотца, державшая в плену всё человечество, встречает свой конец в крови Агнца. Не природа исцеляется, но вина снимается – вот суть крещального таинства! Где хоть слово у Павла про болезнь и исцеление? Безусловно, онтологически рождается новое творение. Новое, а не исцеленное. Об этом новом рождении я буду писать в последующих главах.
Как некогда грех одного человека соделал многих виновными, так ныне послушание Единого соделывает многих праведными. В крещении верующий погружается не в простую воду, но в смерть Христову, где всякая вина упраздняется, всякий долг уплачивается, всякое осуждение прекращается. Здесь совершается великий обмен: Христос берет на Себя вину Адамову, тяготевшую над каждым младенцем, рождающимся в мир, а верующий облекается в ризу Христовой праведности.
Но крещение – это больше, чем снятие вины. В этих спасительных водах верующий погружается во Христа как в новую стихию бытия. Ветхий человек, носитель унаследованной вины, умирает в крещальных водах, а новая тварь восстает, запечатленная Духом Святым. Так крещение становится и смертью, и рождением: смертью для царства вины Адамовой и рождением для Царства благодати Христовой.
Отныне верующий стоит пред Богом не как сын виновного Адама, но как возлюбленное чадо во Христе. Всякое обвинение закона умолкает, всякая тень прародительского греха рассеивается, и сам престол правосудия Божия становится престолом благодати. Вот она – слава крещального таинства, где Божественное правосудие и милость встречаются в совершенной гармонии!
В крещальных водах верующий обретает совершенную полноту во Христе. Не семя будущего совершенства, не росток грядущего преображения, но саму полноту Божественной жизни получает он в этом святом таинстве. Здесь человек облекается во Христа не частично, не постепенно, но всецело и совершенно.
О, бездна премудрости Божией! В едином действии Святой Троицы верующий получает всё потребное для жизни и благочестия. Отец усыновляет его в возлюбленном Сыне, Христос облекает его Своей совершенной праведностью, Дух Святой запечатлевает его в день искупления. Что может быть прибавлено к этой полноте? Что может быть усовершенствовано в том, что уже совершенно?
И только безумец, ослепленный гордыней человеческих измышлений, может утверждать, будто это великое действие благодати есть нечто неполное, незавершенное, недостаточное, несовершенное! Как может тварь дополнить то, что соделал Сам Бог? Как может немощный человек усовершенствовать то, что запечатлено печатью Духа Святого?
Нет! В крещении верующий получает не начаток, но полноту, не обещание, но исполнение, не предвкушение, но само обладание всеми сокровищами премудрости и ведения, сокрытыми во Христе. Здесь конец всякому человеческому усилию, всякому самосовершенствованию, всякой попытке достичь того, что уже даровано по благодати!
Мнение древней Церкви об этом вопросе я подробно изложу в последующих главах. Конечно, верующему предстоит долгий и трудный путь «совлечения ветхого человека», но это не относится к его спасению, которое раз и навсегда совершенно Богом во Христе. Совлечение ветхого человека, освящение – это жизнь в спасении, а не жизнь для спасения.
Конечно же, речь идет не о том мнимом крещении, которое производят в нашей церкви в 99% случаев, когда человек даже не верит в Бога, и тем более не знает основания своей веры. Я говорю о крещении не как о церковном таинстве, а как о таинственном акте Божественной благодати, который может быть связан с церковным обрядом, может быть после него, может быть до него.
Я говорю здесь о настоящем рождении свыше, а не о том, что профанируется в православной церкви, где атеисты, вечером раскладывающие пасьянс на картах таро, с утра приносят своих детей крестить за деньги, потому что без денег, как мы знаем, крестить нельзя. Все строго по прейскуранту. В таких случаях нет ни веры, ни покаяния, ни истинного понимания совершающегося – есть только внешний обряд, лишенный всякого духовного содержания.
Поэтому, когда я говорю о полноте и совершенстве крещения, я имею в виду именно действительное рождение свыше, а не формальное совершение обряда над неверующими людьми.
Праведность
Здесь мы подходим к самому сердцу проблемы православного богословия первородного греха. Отрицание реальности вмененной вины Адама неизбежно подрывает саму возможность вмененной праведности Христа. Эта связь не случайна – она лежит в основе павловской аргументации в Послании к Римлянам.
Апостол Павел строит параллель: «Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни» (Рим. 5:18). Это не просто аналогия, а глубокая богословская истина о механизме спасения. Если мы отрицаем возможность вменения вины Адама как «несправедливую», мы тем самым отрицаем и возможность вменения праведности Христа.
Православное богословие, пытаясь защитить «справедливость» Бога в вопросе первородного греха, фактически разрушает основание спасения по благодати. Если человек не может быть виновен в чужом грехе (грехе Адама), то он не может быть и праведен чужой праведностью (праведностью Христа). В результате остается только один путь – путь личных заслуг и дел.
Но здесь мы сталкиваемся с прямым противоречием словам апостола Павла: «Если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал. 2:21). Это не просто риторическое преувеличение – это принципиальный богословский тезис. Если человек может достичь праведности собственными усилиями, пусть и с помощью благодати, то жертва Христа становится излишней.
Единственный выход – принять библейское учение о том, что как вина Адама реально вменяется нам, так и праведность Христа реально вменяется верующим. Это не «юридическая фикция», а глубокая реальность нашего единства со Христом, так же как грех Адама – это реальность нашего единства с ним как главой человечества.
Отвергая учение о вмененной вине, православное богословие неизбежно скатывается в пелагианство, где спасение становится результатом человеческих усилий, а не даром благодати. Это прямо противоречит всему учению апостола Павла и делает крестную жертву Христа если не бессмысленной, то по крайней мере недостаточной для спасения.
Так попытка «защитить» справедливость Бога приводит к полному извращению Евангелия благодати. Истинное смирение требует принять библейское учение о вмененной вине и вмененной праведности, даже если оно не соответствует нашим представлениям о справедливости.
Человекообразные боги
В результате создания «удобного» образа Бога православие утратило ключевые элементы, которые делают христианство уникальным откровением. Вместо величественного библейского Бога, суверенного в Своих действиях и непостижимого в Своих решениях, мы получаем образ божества по своему образу и подобию, которое действует по понятным человеческим правилам и поддается манипуляции через религиозные практики.
Эта редукция привела к утрате фундаментальных доктрин христианской веры. Учение об избрании, которое подчеркивает абсолютную суверенность Бога в деле спасения, практически отсутствует в православном богословии. Оно заменяется расплывчатыми рассуждениями о «синергии», где человек становится соработником Богу в деле собственного спасения.
Концепция второго рождения, радикального преображения природы верующего действием Святого Духа, подменяется постепенным «обожением» через аскетические практики и участие в таинствах. При этом теряется сама суть возрождения как сверхъестественного действия Бога в душе человека.
Особенно показательна утрата понимания веры как духовного подвига. В православии вера сводится к простому принятию исторических фактов и традиционных догматов. Исчезает измерение веры как постоянной борьбы с сомнениями, как усилия принять истины, которые противны нашему падшему разуму и испорченной природе. Подвиг веры раскрывается в поразительном парадоксе: чем яснее верующий видит бездну своей греховности, тем тверже его упование на совершенную праведность во Христе. В этой священной диалектике познание собственного ничтожества становится основанием для дерзновенного усыновления Богу.
Естественный разум противится такому устроению. Как может тот, кто ежедневно обличается совестью в тысяче грехов, именовать себя чадом Божиим? Как смеет носитель растленной природы называться новым творением? Но именно здесь является сила веры, дарованной свыше: видя море своих грехов, верующий еще тверже держится за якорь обетования.
Это не мечтательное самообольщение и не благочестивая фантазия о будущем совершенстве. Это реальность нового бытия во Христе, где верующий, среди самых горьких слез покаяния, непоколебимо стоит в дарованном усыновлении. Такая вера – дар Божий, ибо никакие человеческие усилия не могут удержать вместе эти две истины: видение своей крайней греховности и твердую уверенность в своем совершенном оправдании во Христе.
Священное Писание, которое должно быть центром христианской жизни, отодвигается на периферию, уступая место преданию, которое часто, по словам апостола Павла, сводится к «бабьим басням». Живое слово Божие заменяется бесконечными житиями святых и назидательными историями, которые больше говорят о человеческих достижениях, чем о величии Бога.
Самое трагичное – это утрата радости спасения и уверенности в нем. Православный верующий никогда не может быть уверен в своем спасении, потому что оно всегда зависит от его собственных усилий и заступничества святых. Он не может просто положиться на совершенную жертву Христа, потому что в православном понимании эта жертва недостаточна – она должна быть дополнена человеческими делами и молитвами святых.
В православной традиции, отвергнувшей учение о вмененной праведности Христа, неизбежно развился культ личной праведности, воплощённый в почитании святых. Вместо библейского понимания, где все верующие названы святыми благодаря праведности Христа, появляется особая категория людей, достигших святости собственными усилиями.
Это фундаментальное искажение проявляется в том, как изменилось само понятие «святой». Если апостол Павел обращается ко всем членам церкви как к «святым и верным во Христе Иисусе», то в православии святость становится редким достижением исключительных личностей. Эти люди канонизируются именно за их личные достижения, особые подвиги и необычайные качества характера.
Показателен сам термин «праведный» в православной агиографии. Он применяется к тем, кто якобы достиг праведности собственной жизнью, как, например, праведный Иоанн Кронштадтский. Это прямо противоречит библейскому учению о том, что «нет праведного ни одного» и что единственная доступная нам праведность – это праведность Христа, принимаемая верой.
В результате благодать перестает быть незаслуженным даром и становится наградой за духовные подвиги. Святые в православном понимании – это не те, кто омыт кровью Христа, а те, кто своими делами заслужил особый статус. Они предлагаются как пример того, что человек может достичь праведности собственными усилиями, что является по сути возвратом к законническому пониманию спасения.
Это создает порочный круг: отрицание вмененной праведности Христа ведет к необходимости достигать праведности собственными силами, что в свою очередь порождает культ тех, кому это якобы удалось. Вместо того чтобы указывать на совершенную праведность Христа, Церковь начинает превозносить человеческие достижения, пусть даже и в духовной сфере.
Так православие фактически возвращается к тому, против чего боролся апостол Павел – к идее достижения праведности делами закона. Только теперь это не закон Моисеев, а православный подвижнический идеал, но суть остается той же – попытка заслужить то, что может быть только даром благодати.
В результате вместо живой веры в живого Бога мы получаем сложную систему религиозных практик, где человек пытается заслужить спасение через бесконечные подвиги и обряды. Величественное евангельское учение о спасении по благодати через веру подменяется утомительным религиозным марафоном, где человек никогда не может быть уверен, достаточно ли он сделал для своего спасения.
Это не просто искажение отдельных доктрин – это фундаментальное извращение самой сути христианства, превращение его из религии благодати в религию человеческих усилий. И корень этого извращения – в создании ложного образа Бога, соответствующего человеческим представлениям и желаниям, вместо смиренного принятия Бога таким, каким Он открыл Себя в Писании.
Гуманизм
Современное сознание, пропитанное гуманистическими идеалами, сталкивается с радикальным вызовом библейского откровения. Фундаментальный конфликт заключается в том, что Писание последовательно богоцентрично, тогда как современный человек пытается сделать центром вселенной себя и свои представления о справедливости.
Библия говорит о суверенном Боге, который избирает одних и оставляет других, не спрашивая их мнения и не объясняя Своих действий. Это глубоко оскорбляет гуманистическое сознание, для которого высшей ценностью является человеческая автономия и равенство прав. Современный человек не может принять Бога, который действует вопреки его представлениям о справедливости и равенстве.
В этом контексте учение о вменении вины Адама становится особенно неприемлемым. Сама идея о том, что человек может быть виновен в чужом грехе, противоречит гуманистическому индивидуализму, где каждый отвечает только за свои действия. Современное нравственное чувство, воспитанное на идеях прав человека и индивидуальной автономии, восстает против такого «несправедливого» установления.
При этом происходит характерная подмена: вместо того чтобы позволить Писанию формировать наши нравственные представления, мы пытаемся втиснуть библейское откровение в рамки современной этики. Мы ищем в Библии подтверждение наших представлений о правах человека, гендерном равенстве, толерантности, хотя эти концепции совершенно чужды библейскому мировоззрению.
Особенно ярко это проявляется в современных попытках «прочтения» Библии через призму борьбы за права различных групп. Писание рассматривается не как откровение о Боге и Его замысле, а как инструмент для продвижения современной социальной повестки. При этом игнорируется тот факт, что Библия не ставит своей целью решение социальных проблем или установление справедливого общества по человеческим меркам.
В результате библейское учение о грехе, суде и спасении подменяется гуманистической этикой самореализации и прав человека. Суверенный Бог, действующий по Своей воле, заменяется «богом» человеческих желаний и представлений о справедливости. Это и есть современное идолопоклонство, где человек создает бога по своему образу и подобию.
Именно поэтому учение о вмененной вине становится камнем преткновения – оно обнажает несовместимость библейского теоцентризма с современным гуманистическим мировоззрением. Принять это учение означает смириться с тем, что Бог действует не по нашим правилам и что наши представления о справедливости не являются абсолютным мерилом.
Это требует радикального смирения, отказа от претензий на моральную автономию и признания абсолютного суверенитета Бога. Но именно на такое смирение современный человек, воспитанный на идеях гуманизма и прав личности, оказывается неспособен.
Учение Церкви
Краткий обзор
Исторически первой попыткой систематического осмысления механизма передачи первородного греха можно считать концепцию Тертуллиана, развившего теорию традуционизма.
Тертуллиан учит о передаче от Адама его потомкам осуждения (damnatio).
Наиболее влиятельной в западной традиции стала августиновская концепция первородного греха, развитая блаженным Августином в полемике с Пелагием. Августин настаивал на реальности унаследованной вины, утверждая, что все люди согрешили «в Адаме» не только в смысле получения поврежденной природы, но и в смысле реального участия в его преступлении. Эта позиция была поддержана и развита такими богословами как Фульгенций Руспийский, Проспер Аквитанский и впоследствии стала доминирующей в западном богословии.
Противоположный полюс представляет пелагианская концепция, отрицающая наследование как вины, так и существенного повреждения природы. Согласно Пелагию, грех Адама повредил ему одному, а его потомки рождаются в том же состоянии, в котором был создан Адам. Эта позиция была осуждена Церковью как ересь, но ее умеренные формы периодически возрождались в истории богословия.
Восточная патристическая традиция, представленная такими отцами как Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский, Иоанн Дамаскин, делала акцент на повреждении природы, избегая юридической терминологии вины и подчеркивая искажение образа Божия в человеке как следствие грехопадения. Восточные отцы не отрицали реальности первородного греха, но предпочитали говорить о нем в терминах онтологического повреждения, а не юридической вины.
Схоластическое богословие, особенно в лице Фомы Аквинского, попыталось синтезировать различные аспекты учения о первородном грехе. Фома различал материальный аспект первородного греха (concupiscentia; вожделение) и формальный (privatio iustitiae originalis; лишение первоначальной праведности), подчеркивая как реальность унаследованной вины, так и онтологическое повреждение природы.
Реформация внесла свой вклад в осмысление первородного греха. Мартин Лютер и Жан Кальвин подчеркивали тотальную испорченность человеческой природы и реальность унаследованной вины. Особое развитие получила федеральная теория, разработанная в реформатском богословии, согласно которой Адам был юридическим представителем всего человечества, и его грех вменяется потомкам на основании завета.
В современном богословии можно выделить несколько основных подходов к интерпретации первородного греха:
Традиционный августиновский подход, подчеркивающий реальность унаследованной вины.
Восточно-православный подход, акцентирующий внимание на повреждении природы.
Федеральный подход, рассматривающий вменение греха Адама в юридических категориях.
Экзистенциальный подход (К. Барт, Р. Нибур), интерпретирующий первородный грех как универсальную ситуацию человеческого существования.
Современные попытки переосмысления доктрины в свете научных данных и современной антропологии.
Полупелагианское учение
Учение православия о первородном грехе как простом повреждении природы обнажает глубочайший разрыв между восточным богословием и евангельской истиной. В этом учении, словно в зеркале, отражается древняя ересь Пелагия, где благодать превращается в помощницу человеческих усилий, а не в животворящую силу воскресения из мертвых.
Пелагий учил, что грех Адама повредил человечество лишь силой дурного примера. Каждый человек рождается с той же свободой выбора, какой обладал Адам. Грех не передается по наследству – передается лишь склонность к греху, которую человек способен преодолеть силой своей воли. Благодать в этой системе превращается в естественный дар – разум, свободную волю, закон Божий и пример Христа.
Когда православное богословие утверждает, что вина Адама не наследуется, а человек сохраняет первозданную свободу выбирать спасающее добро, оно вторит заблуждениям Пелагия. Утверждение о возможности веры и исполнения заповедей без предваряющей благодати есть не что иное, как возрождение древней ереси в новых одеждах.
В свете этого учения таинство крещения теряет свой подлинный смысл. Если первородный грех – лишь болезнь или повреждение, то зачем нужно прощение? Отпущение грехов (remissio peccatorum) – термин, указывающий на отпущение вины, а не на исцеление природы. Крещение младенцев становится бессмысленным ритуалом, если нет реальной вины, требующей прощения.
Еще более острый вопрос встает о смысле Крестной Жертвы. Если человек способен своими силами исполнять заповеди и избирать добро, то смерть Христа превращается в трагическое недоразумение. Зачем нужна искупительная жертва там, где достаточно морального усилия? Само понятие примирения с Богом теряет смысл, если нет реального отчуждения и вражды.
Пелагианство, древнее и новое, разбивается о скалу апостольского свидетельства: «мертвы по преступлениям и грехам». Не больны, не повреждены, но мертвы. И как мертвый не может сам себя воскресить, так падший человек не может сам начать движение к Богу. Требуется чудо воскресения, а не помощь в самосовершенствовании.
История церковной мысли показывает, что полупелагианские тенденции возникают всякий раз, когда человеческий разум пытается смягчить беспощадную истину Писания о глубине падения. Православное учение о первородном грехе представляет собой классический пример такой рационализации, где библейское учение приспосабливается к человеческим представлениям о справедливости и свободе воли.
В конечном итоге вопрос о природе первородного греха оказывается вопросом о природе спасения. Либо спасение есть всецело дело Божественной благодати, воскрешающей мертвых, либо оно превращается в систему нравственного усовершенствования, где Бог лишь помогает человеку в его духовном восхождении. Третьего не дано.
История о сотнике Корнилии
Симеон Новый Богослов
«Корнилий – муж благоговен и бояйся Бога со всем домом своим. Не себя только одного держал он в страхе Божием, но и всех, живущих в доме его, научил бояться Бога. И сие добро есть и приятно пред Богом (1 Тим. 2:3), да печется всяк не о том одном, что ему собственно полезно, но и о том, что полезно всем, живущим вместе с ним. Таким образом, сотник оный, прежде чем научен был Апостолами, уже исполнял заповедь апостольскую, которая повелевает: «Никтоже своего си да ищет, но еже ближняго кийждо» (1 Кор. 10:24). Творил он также и милостыни многи, и Богу молился день и ночь; и таким образом, прежде чем уверовал, явно исполнял заповедь Господа нашего и Бога, которая повелевает: «Бдите и молитеся, да не внидете в напасть» (Мф. 26:41), и еще: «Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете; толцыте, и отверзется вам» (Мф. 7:7). Видишь, что делал этот неверующий еще во Христа и почти язычник? Не слышал еще он слова благовестия, а уже усердно исполнял заповеди евангельские, прежде чем научен им был от кого-либо. Просил он посредством благоговеинства, и получил; искал посредством милостыни, и нашел; толкал посредством поста и молитвы, и отверзалось ему» (Слово 113).
В словах Симеона Нового Богослова обнаруживается глубокое искажение евангельской истины, где благодать подменяется природными способностями падшего человека. Его толкование истории Корнилия представляет собой классический образец пелагианского заблуждения, где человеческая воля предваряет действие благодати.
Утверждение, что Корнилий мог научить других страху Божию до принятия благодати, противоречит самим основам библейского откровения. Как может слепой вести слепого? Как может духовно мертвый передать жизнь? Здесь природные религиозные чувства ошибочно принимаются за истинное богопознание.