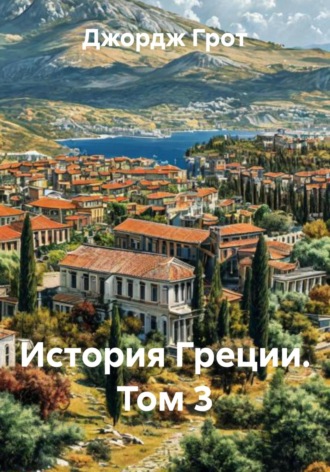
Полная версия
История Греции. Том 3
Говорили, что он был сыном нимфы Балты; что нимфы снабжали его пищей, поскольку его никогда не видели едящим; что в юности он заснул в пещере и пребывал в этом состоянии без перерыва пятьдесят семь лет; хотя некоторые утверждали, что всё это время он странствовал по горам, собирая и изучая целебные растения в качестве ятроманта – сочетавшего в себе врача и пророка. Эти предания отражают представление древних об Эпимениде-Очистителе, [146] который был призван исцелить как эпидемию, так и душевное смятение, охватившее афинский народ, подобно тому как его земляк и современник Фалет несколькими годами ранее был приглашён в Спарту, чтобы унять чуму с помощью своей музыки и священных гимнов. [147]
Благоволение Эпименида у богов, его знание искупительных обрядов и способность воздействовать на религиозные чувства полностью преуспели в восстановлении здоровья и душевного спокойствия в Афинах. Рассказывают, что он выпустил на ареопаге чёрных и белых овец, велев слугам следовать за ними и наблюдать, а на тех местах, где животные ложились, возводить новые алтари соответствующим местным божествам. [148] Он основал новые святилища и установил [стр. 86] различные очистительные церемонии; в особенности же он упорядочил богослужение, совершаемое женщинами, так, чтобы успокоить их прежде неистовые порывы.
Мы почти ничего не знаем о деталях его действий, но сам факт его посещения и благотворное воздействие, устранившее религиозное уныние, угнетавшее афинян, хорошо засвидетельствованы: утешительные заверения и новые обрядовые предписания из уст человека, считавшегося особо приближённым к Зевсу, стали лекарством, в котором нуждалось это несчастное смятение. Более того, Эпименид проявил благоразумие, сблизившись с Солоном, и, хотя, без сомнения, получил от него много ценных советов, косвенно способствовал росту репутации самого Солона, чья деятельность по конституционной реформе уже приближалась к своему пику.
Он оставался в Афинах достаточно долго, чтобы полностью восстановить более здоровую религиозную атмосферу, а затем уехал, унося с собой всеобщую благодарность и восхищение, но отказавшись от всякой иной награды, кроме ветви со священной оливы на акрополе. [149] Говорили, что его жизнь продлилась необычайно долго – сто пятьдесят четыре года, согласно утверждениям, ходившим во времена его младшего современника Ксенофана Колофонского; [150] критяне же даже осмеливались утверждать, что он прожил триста лет. Они прославляли его не только как мудреца и духовного очистителя, но и как поэта – ему приписывались очень длинные произведения на религиозные и миф [стр. 87] ологические темы; по некоторым сведениям, они даже почитали его как бога.
И Платон, и Цицерон рассматривали Эпименида так же, как его современники – как пророка, вдохновлённого божеством и предсказывающего будущее в состояниях временного экстаза; однако, согласно Аристотелю, сам Эпименид утверждал, что от богов получил не более чем дар провидеть неизвестные события прошлого. [151]
Религиозная миссия Эпименида в Афины и её исцеляющее воздействие на общественное сознание заслуживают внимания как характерные черты той эпохи, в которую они произошли. [152] Если мы перенесёмся на два столетия вперёд, к временам Пелопоннесской войны, когда рациональные идеи и позитивные привычки мышления прочно утвердились в умах наиболее просвещённых, а практические обсуждения политических и судебных вопросов стали обычным делом для каждого афинского гражданина, то столь неконтролируемая религиозная тревога вряд ли могла бы охватить всё общество; а если бы и охватила, то вряд ли нашёлся бы человек, способный снискать всеобщее почитание и исцелить этот недуг. Платон, [153] признавая реальную целительную силу обрядов и церемоний, полностью верил в то, что Эпименид был вдохновлённым пророком в прошлом, но к тем, кто претендовал на обладание сверхъестественной силой в его время, он относился с куда большим скепсисом. Он, как и Еврипид с Теофрастом, встречал равнодушием, а то и презрением орфеотелестов более позднего периода, которые заявляли, будто владеют тем же знанием ритуальных обрядов и способны влиять на волю богов, как некогда Эпименид. Эти орфеотелесты, несомненно, имели множество последователей и весьма успешно, а также выгодно для себя, спекулировали на [стр. 88] тревожной совести богачей: [154] однако они не пользовались уважением ни среди широкой публики, ни среди тех, чьему авторитету публика привыкла доверять. Как бы ни были они выродившимися, они оставались законными преемниками пророка и очистителя из Кносса, чьё появление столь помогло афинянам двумя веками ранее. Их изменившееся положение объяснялось не столько их собственным упадком, сколько прогрессом в среде, на которую они пытались воздействовать. Если бы сам Эпименид явился в Афины в те времена, его визит, вероятно, оказался бы столь же бесполезным для общественных целей, как и повторение уловки Фие, облачённой в одеяние богини Афины, – уловки, столь успешной во времена Писистрата, но которую даже Геродот счёл невероятно абсурдной, хотя за век до него и город Афины, и аттические демы повиновались приказам этой величественной женщины как божественному повелению, восстановившему Писистрата у власти. [155]
Глава XI.
СО
ЛОНО
ВСКИЕ ЗАКОНЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО.
Мы подходим к новой эпохе в истории Греции – первому известному примеру подлинной и бескорыстной конституционной реформы и первому краеугольному камню того великого здания, которое впоследствии стало образцом демократии в Греции. Архонтство эвпатрида Солона датируется 594 годом до н. э., через тридцать лет после Драконта и примерно через восемнадцать лет после заговора Килона, если предположить, что последнее событие правильно датируется 612 годом до н. э.
Жизнеописания Солона, составленные Плутархом и Диогеном, особенно первое [стр. 89], являются нашими главными источниками информации об этом выдающемся человеке. И хотя мы благодарны им за то, что они сообщили, невозможно не выразить разочарования, что они не рассказали больше. У Плутарха, несомненно, были под рукой как оригинальные стихи, так и оригинальные законы Солона, и те немногие цитаты, которые он приводит из них, составляют главную прелесть его биографии. Но такие ценные материалы должны были привести к более содержательному результату, чем тот, который он представил. Нет, пожалуй, большей утраты среди сокровищ греческой мысли, чем утрата поэм Солона, ибо по сохранившимся фрагментам видно, что они содержали описания общественных и социальных явлений его времени, которые он был вынужден внимательно изучать, – переплетенные с трогательным выражением его личных чувств в положении, одновременно почетном и трудном, на которое его возвело доверие сограждан.
Солон, сын Эксекестида, был эвпатридом среднего достатка [156], но чистейшей героической крови, принадлежа к роду Кодридов и Нелеидов и возводя свое происхождение к богу Посейдону. Говорят, его отец растратил состояние из-за мотовства, что вынудило Солона в молодые годы заняться торговлей, и в этом занятии он посетил многие области Греции и Азии. Это позволило ему расширить кругозор и накопить материал как для размышлений, так и для творчества. Его поэтический талант проявился очень рано – сначала в легких, затем в серьезных темах. Следует помнить, что в то время не существовало греческой прозы, и интеллектуальные труды, даже в самой простой форме, подчинялись не правилам пунктуации, а законам гекзаметра и пентаметра. Впрочем, стихи Солона не претендуют на больший эффект, чем мы привыкли связывать с искренней, трогательной и наставительной прозой. Советы и призывы, которые он часто обращал к согражданам [157], были изложены этим легким размером, несомненно, гораздо менее сложным, чем тщательно отделанная проза позднейших [стр. 90] писателей и ораторов, таких как Фукидид, Исократ или Демосфен. Его поэзия и его слава распространились по многим областям Греции, и его ставили в один ряд с Фалесом Милетским, Биантом Приенским, Питтаком Митиленским, Периандром Коринфским, Клеобулом Линдским и Хилоном Лакедемонским – все они впоследствии составили прославленное созвездие Семи мудрецов.
Первым конкретным событием, в котором Солон проявил себя как активный политик, стал спор между Мегарой и Афинами за обладание островом Саламин. В то время Мегара могла соперничать с Афинами и даже некоторое время успешно удерживала этот важный остров – примечательный факт, который, возможно, объясняется тем, что жители Афин и их окрестностей вели борьбу лишь при частичной поддержке остальной Аттики. Как бы то ни было, к моменту начала политической карьеры Солона мегарцы уже прочно обосновались на Саламине, а афиняне понесли такие потери в борьбе, что официально запретили любому гражданину даже предлагать возобновление войны за его возвращение. Уязвленный этим позорным отказом, Солон притворился, будто находится в состоянии экстатического возбуждения, ворвался на агору и там, на камне, обычно занимаемом официальным глашатаем, прочитал собравшейся толпе короткую элегическую поэму [158], которую заранее сочинил на тему Саламина. Он убеждал их в позоре отказа от острова и так сильно повлиял на их чувства, что они отменили запретительный закон: «Лучше (воскликнул он) я лишусь родного города и стану гражданином Фолегандроса, чем буду именоваться афинянином, заклейменным позором сданного Саламина!» Афиняне снова вступили в войну и поручили ему командование – отчасти, как говорят, по настоянию Писистрата, хотя последний в то время (600–594 гг. до н. э.) должен был быть еще очень молодым человеком или даже ребенком [159].
Рассказы Плутарха о том, как Саламин был возвращен, противоречивы и апокрифичны, приписывая Солону различные хитрости для обмана мегарских захватчиков; к сожалению, ни один из них не подтверждается достоверными источниками. Согласно наиболее правдоподобной версии, он получил указание от дельфийского бога сначала умилостивить местных героев острова; поэтому он переправился туда ночью, чтобы принести жертвы героям Перифему и Кикрею на саламинском берегу. Затем были набраны пятьсот афинских добровольцев для атаки на остров, с условием, что в случае победы они получат его в собственность и гражданские права. [160] Они благополучно высадились на отдаленном мысу, в то время как Солон, сумев захватить корабль, посланный мегарцами для наблюдения, посадил на него афинян и направился прямо к городу Саламину, куда также двинулись высадившиеся пятьсот афинян. Мегарцы вышли из города, чтобы отразить их, и в разгар боя Солон на мегарском корабле с афинским экипажем подплыл прямо к городу: мегарцы, приняв его за возвращение своего корабля, позволили ему приблизиться без сопротивления, и город был взят врасплох. После того как мегарцам разрешили покинуть остров, [стр. 92] Солон завладел им для Афин, воздвигнув храм Эниалию, богу войны, на мысе Скирадионе близ города Саламина. [161]
Однако мегарцы предприняли несколько попыток вернуть столь ценное владение, что привело к затяжной и губительной для обеих сторон войне. В конце концов, они согласились передать спор на арбитраж Спарты, и для его разрешения были назначены пять спартанцев – Критолаид, Амомфарет, Гипсехид, Анаксил и Клеомен. Решение в пользу Афин было основано на доказательствах, которые сегодня кажутся любопытными. Обе стороны пытались доказать, что погребенные на острове тела соответствуют их собственному способу захоронения, и обе цитировали строки из каталога «Илиады», [162] обвиняя друг друга в ошибках или интерполяциях. Но афиняне имели преимущество по двум пунктам: во-первых, существовали дельфийские оракулы, где Саламин упоминался с эпитетом «ионийский»; во-вторых, Филей и Эврисак, сыновья теламонида Аякса, великого героя острова, приняли афинское гражданство, передали Саламин афинянам и переселились в Браврон и Мелиту в Аттике, где филаиды, дем или род, по-прежнему чтили Филея как своего эпонимного предка. Этого оказалось достаточно, и пять спартанцев присудили Саламин Аттике, [163] с которой он оставался неразрывно связан [стр. 93] вплоть до времен македонского господства. Два с половиной века спустя, когда оратор Эсхин отстаивал право Афин на Амфиполь перед Филиппом Македонским, легендарные элементы аргументации действительно выдвигались, но скорее как предисловие к существенным политическим основаниям. [164] Однако в 600 году до н. э. авторитет легенды был более глубоким и действенным, достаточным сам по себе для благоприятного вердикта.
Помимо завоевания Саламина, Солон укрепил свою репутацию, выступив в защиту дельфийского храма против вымогательств жителей Кирры, о чем подробнее будет сказано в следующей главе; благосклонность оракула, вероятно, сыграла свою роль в получении им ободряющего пророчества, с которого началась его законодательная деятельность.
Именно в связи с законодательством Солона мы впервые – к сожалению, лишь мельком – получаем представление о реальном состоянии Аттики и ее жителей. Картина печальна и непривлекательна: политические раздоры сочетаются с частными страданиями.
Среди жителей Аттики царили жестокие раздоры: они разделились на три фракции – педиеи, или жители равнины, включая Афины, Элевсин и соседние территории, среди которых было больше всего богатых семей; диакрии, горцы востока и севера Аттики, в целом беднейшая группа; и паралии южной части Аттики, от моря до моря, чье материальное и социальное положение было промежуточным. [165] Точные причины этих внутренних споров неизвестны; впрочем, они не были особенностью периода непосредственно перед архонтством Солона – они существовали и раньше и возобновились позже, перед [стр. 94] тиранией Писистрата, который выступил как лидер диакриев и защитник (реальный или мнимый) бедного населения.
Но во времена Солона эти внутренние распри усугублялись куда более сложной проблемой – всеобщим восстанием бедных против богатых, вызванным нищетой и угнетением. Феты, чье положение мы уже видели в поэмах Гомера и Гесиода, теперь составляют основную массу населения Аттики – это арендаторы, издольщики и мелкие землевладельцы. Они описаны как обремененные долгами и зависимостью, многие из них перешли из свободного состояния в рабство – вся их масса, как говорится, была в долгу у богачей, владевших большей частью земли. [166] Они либо брали деньги в долг для своих нужд, либо обрабатывали земли богачей как зависимые арендаторы, отдавая установленную долю урожая, и в этом качестве многие из них имели большие задолженности.
Все пагубные последствия старого сурового закона о должниках и кредиторах – некогда распространенного в Греции, Италии, Азии и на большей части мира – сочетались здесь с признанием рабства законным состоянием и права одного [стр. 95] человека продавать себя, равно как и права другого покупать его. Каждый должник, неспособный выполнить свой договор, мог быть приговорен к рабству у своего кредитора, пока не находил способа либо выплатить долг, либо отработать его; и не только он сам, но и его малолетние сыновья, незамужние дочери и сестры, которых закон давал ему право продавать [167]. Бедняк, таким образом, брал в долг под залог своего тела – если переводить греческую фразу буквально – и под залог членов своей семьи; и настолько жестоко исполнялись эти кабальные договоры, что многие должники в самой Аттике были низведены от свободы до рабства, – многие другие проданы для вывоза, – а некоторые до сих пор сохраняли свою свободу лишь ценой продажи детей. Более того, множество мелких земельных владений в Аттике были заложены, о чем свидетельствовали – согласно формальности, обычной в афинском праве и сохранявшейся на протяжении всей исторической эпохи – каменные столбы, установленные на земле, с надписью имени заимодавца и суммы займа. Владельцы этих заложенных земель, в случае неблагоприятного поворота событий, не имели иной перспективы, кроме неотвратимого рабства для себя и своих семей – либо в родной стране, лишенной всех ее радостей, либо в каком-нибудь варварском краю, где аттический говор никогда не достигал бы их слуха. Некоторые бежали из страны, чтобы избежать судебного приговора, и добывали жалкое пропитание на чужбине унизительными занятиями; на некоторых же это бедственное положение обрушилось из-за несправедливых приговоров и продажных судей, ибо поведение богачей в отношении денег – как священных, так и мирских, в делах как общественных, так и частных – было совершенно бесчестным и хищническим.
Многообразные и долговременные страдания бедняков при этой системе, погруженных в состояние унижения, не менее тяжкого, чем у галльской плебс, – и несправедливости богачей, в чьих руках тогда была вся политическая власть, – факты, хорошо [стр. 96] засвидетельствованные самими стихами Солона, даже в тех коротких фрагментах, что дошли до нас [168]. И, по-видимому, непосредственно перед временем его архонтства зло достигло такого предела, – а решимость массы страдальцев добиться для себя какого-либо облегчения стала настолько явной, – что существующие законы уже не могли исполняться. Согласно глубокому замечанию Аристотеля – что мятежи рождаются от больших причин, но из малых поводов [169], – можно предположить, что некоторые недавние события послужили непосредственным толчком к восстанию должников, подобно тем, что придают столь поразительный интерес ранней римской истории, как воспламеняющие искры народных волнений, для которых горючий материал был подготовлен задолго до того. Возможно, приговоры архонов к несостоятельным должникам стали выноситься необычайно часто, или же жестокое обращение с каким-то конкретным должником, некогда уважаемым свободным человеком, в его рабском состоянии могло сильно повлиять на общественные симпатии, – как в случае со старым плебейским центурионом в Риме [170], – сначала разоренным вражеским грабежом, затем вынужденным занять деньги и, наконец, присужденным к своему креди [стр. 97] тору как несостоятельный, – который потребовал защиты народа на форуме, возбудив его чувства до крайней степени следами рабского бича на своем теле. Вероятно, произошли какие-то подобные события, хотя у нас нет историков, чтобы их описать; более того, не будет неразумным предположить, что та общественная душевная тревога, для успокоения которой был призван очиститель Эпименид, имела своей причиной не только чуму, но и годы неурожаев, которые, конечно, усугубили бедственное положение мелких земледельцев.
Как бы то ни было, таково было положение вещей в 594 г. до н. э.: бунт бедных свободных граждан и фетов, недовольство среднего класса – так что правящая олигархия, неспособная ни взыскать свои частные долги, ни удержать политическую власть, была вынуждена обратиться к известной мудрости и честности Солона. Хотя его резкий протест – который, несомненно, сделал его приемлемым для народных масс – против несправедливости существующей системы уже был провозглашен в его стихах, они все еще надеялись, что он послужит им союзником, чтобы помочь преодолеть трудности, и потому избрали его, номинально, архонтом вместе с Филомбротом, но с властью, по сути, диктаторской.
Бывало так в нескольких греческих государствах, что правящие олигархии, либо из-за раздоров среди своих членов, либо из-за общего бедственного положения народа под их властью, лишались той опоры в общественном мнении, которая была необходима для их власти; и иногда, как в случае Питтака Митиленского до архонтства Солона, и часто в распрях итальянских республик Средних веков, столкновение противоборствующих сил делало общество невыносимым и заставляло все стороны согласиться на выбор реформирующего диктатора. Однако обычно в ранних греческих олигархиях этот конечный кризис предвосхищался каким-нибудь честолюбивым лицом, которое использовало народное недовольство, чтобы свергнуть олигархию и узурпировать власть тирана; и, вероятно, так могло случиться и в Афинах, если бы не недавний провал Килона со всеми его плачевными последствиями, подействовавший как сдерживающий мотив. Любопытно читать в собственных словах Солона, как его назначение было истолковано значительной частью общества, но особенно его собственными друзьями: и мы [стр. 98] должны помнить, что в эту раннюю эпоху, насколько нам известно, демократическое правление было неизвестно в Греции – все греческие государства были либо олигархиями, либо тираниями, а масса свободных граждан еще не вкусила конституционных привилегий. Его собственные друзья и сторонники первыми стали убеждать его, исправляя всеобщее недовольство, умножить число своих личных приверженцев и захватить верховную власть: они даже «упрекали его как безумца за то, что он отказывался вытянуть сеть, когда рыба уже была в ней» [171]. Народные массы, отчаявшись в своей судьбе, охотно поддержали бы его в такой попытке, и даже многие среди олигархов могли бы примириться с его личным правлением просто из страха перед худшим, если бы они сопротивлялись.
Что Солон легко мог бы сделать себя тираном, не подлежит сомнению; и хотя положение греческого тирана всегда было рискованным, у него было больше шансов удержаться у власти, чем у Писистрата после него, так что лишь сочетание благоразумия и добродетели, отличавшее его возвышенный характер, удержало его в рамках особо доверенной ему миссии. К удивлению всех, – к неудовольствию своих друзей, – под жалобами, как он сам говорит, различных крайних и разногласящих партий, требовавших от него мер, гибельных для общественного спокойствия [172], – он честно взялся за решение крайне трудной и критической задачи, представленной ему. Из всех обид наиболее насущной было положение беднейшего класса должников; и для их облегчения первая мера Солона – знаменитая сисахфия, или «стряхивание бремени», – была направлена именно на это [стр. 99]. Облегчение, которое она принесла, было полным и немедленным. Она разом отменила все те договоры, в которых должник брал взаймы под залог либо своей личности, либо своей земли: она запретила все будущие займы или договоры, в которых личность должника выступала в качестве залога: она лишила кредитора в будущем всякой власти заключать в тюрьму, обращать в рабство или вымогать работу у своего должника, ограничив его эффективным судебным решением, разрешающим конфискацию имущества последнего. Она смела все многочисленные закладные столбы с земельных владений в Аттике, освободив землю от всех прежних притязаний. Она освободила и восстановила в полных правах всех тех должников, которые фактически находились в рабстве по предыдущим судебным решениям; и она даже предусмотрела средства – мы не знаем какие – для выкупа в чужих землях и возвращения к возобновлённой жизни свободы в Аттике многих несостоятельных должников, проданных на экспорт [173]. И хотя Солон запретил каждому афинянину закладывать или продавать себя в рабство, он пошёл ещё дальше в том же направлении, запретив ему закладывать или продавать своего сына, дочь или незамужнюю сестру под его опекой, – за исключением лишь того случая, когда любая из последних могла быть уличена в бесчестии [174] [стр. 100]. Было ли это последнее постановление современным сисахфии или последовало как одна из его последующих реформ, остаётся сомнительным.
Благодаря этой обширной мере бедные должники – феты, мелкие арендаторы и землевладельцы – вместе со своими семьями были избавлены от страданий и опасности. Но это были не единственные должники в государстве: кредиторы и землевладельцы освобождённых фетов, несомненно, в свою очередь были должниками перед другими и оказались менее способны выполнить свои обязательства из-за ущерба, нанесённого им сисахфией. Именно для помощи этим более состоятельным должникам, чьи личности не находились в опасности, – но не освобождая их полностью, – Солон прибег к дополнительной мере – снижению денежного стандарта; он понизил стандарт драхмы примерно на двадцать пять процентов, так что сто драхм нового стандарта содержали не больше серебра, чем семьдесят три старых, или сто старых были эквивалентны ста тридцати восьми новым. Благодаря этому изменению кредиторы этих более состоятельных должников были вынуждены понести потери, тогда как должники получили освобождение примерно на двадцать семь процентов [175].
[стр. 101] Наконец, Солон постановил, что все те, кто был приговорён архонтами к атимии (гражданскому бесчестию), должны быть восстановлены в своих полных правах граждан, – за исключением, однако, тех, кто был осуждён эфетами, ареопагом или филобасилевсами (четырьмя царями фил) после суда в пританее по обвинениям либо в убийстве, либо в государственной измене [176]. Столь масштабная мера амнистии даёт веские основания полагать, что предыдущие приговоры архонтов были невыносимо суровы; и следует помнить, что в то время действовали драконовские законы.
Таковы были меры облегчения, с которыми Солон встретил опасное недовольство, тогда широко распространённое. Легко представить, что богатые люди и лидеры народа, чьи надменность и несправедливость он сам так резко порицал в своих стихах и чьи ожидания при его назначении он сильно разочаровал [177], возненавидели предложения, которые лишали их без компенсации многих их законных прав. Но утверждение Плутарха, что бедные освобождённые должники также были недовольны, ожидая, что Солон не только спишет их долги, но и перераспределит землю Аттики, кажется совершенно невероятным; и оно не подтверждается ни одним из сохранившихся фрагментов солоновских стихов [178]. Плутарх представляет бедных должников мысленно сравнивающими себя с Ликургом и равенством собственности в Спарте, которое, как я уже пытался показать [179], является вымыслом; и даже будь оно правдой, как давно прошедший и устаревший исторический факт, оно вряд ли могло так сильно воздействовать на умы множества людей в Аттике, как предполагает биограф. Сисахфия, несомненно, ожесточила чувства и уменьшила состояния многих людей; но она дала огромной массе фетов и мелких землевладельцев всё, на что они могли надеяться. И нам [стр. 102] говорят, что после короткого промежутка времени она стала исключительно приемлемой в общем публичном мнении и принесла Солону значительный рост популярности – все сословия объединились в общем жертвоприношении благодарности и гармонии [180]. Был один инцидент, вызвавший взрыв возмущения. Трое богатых друзей Солона, все люди знатных семей в государстве и носящие имена, которые впоследствии встретятся в этой истории как имена их потомков, – Конон, Клейний и Гиппоник, – получив от Солона некоторый намёк на его планы, воспользовались им, сначала заняв деньги, а затем купив земли; и этот эгоистичный обман доверия опозорил бы самого Солона, если бы не выяснилось, что он сам понёс большие потери, ссудив деньги на сумму в пять талантов. Нам хотелось бы знать, на каком источнике основывался Плутарх в этом анекдоте, который вряд ли мог быть записан в собственных стихах Солона [181].











