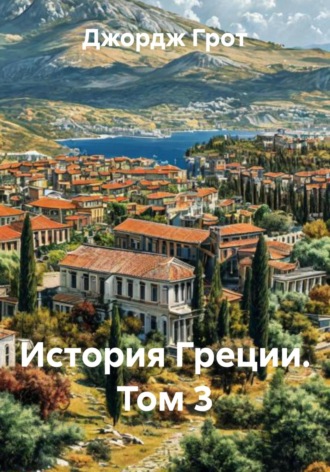
Полная версия
История Греции. Том 3
Вот и все новые политические институты, помимо законов, о которых речь пойдет далее, которые можно с достаточными основаниями приписать Солону, если тщательно отделить то, что действительно принадлежит ему и его эпохе, от афинского государственного устройства в его более поздней, преобразованной форме. Многие авторитетные исследователи греческой истории, включая отчасти даже доктора Тирхвелла [207], часто связывают имя Солона со всей политической и судебной системой Афин в том виде, в каком она существовала между эпохой Перикла и временем Демосфена: с организацией совета пятисот, многочисленными публичными дикастами (судьями-присяжными), избиравшимися по жребию из народа, а также с ежегодно формировавшимся органом для пересмотра законов – номофетами – и процедурой обжалования (графе параномон), позволявшей оспаривать любое предложение как незаконное, неконституционное или опасное.
Действительно, эта путаница между солоновскими и послесолоновскими Афинами отчасти оправдывается тем, как сами ораторы использовали его имя: Демосфен и Эсхин упоминают Солона весьма вольно, приписывая ему учреждения, явно принадлежавшие более поздней эпохе. Например, характерная присяга гелиастов (судей-присяжных), которую Демосфен [208] называет солоновской, сама по себе указывает [стр. 124] на происхождение после Клисфена – хотя бы уже потому, что в ней упоминается совет пятисот, а не четырехсот. Среди граждан, исполнявших обязанности дикастов, Солон почитался как создатель афинских законов вообще, и потому оратор мог использовать его имя для усиления эффекта, не опасаясь, что кто-то станет доискиваться, принадлежал ли конкретный институт самому Солону или более позднему времени.
Многие из учреждений, которые доктор Тирхвелл связывает с именем Солона, представляют собой позднейшие усовершенствования и разработки афинской демократической мысли – постепенно формировавшиеся, несомненно, в период между Клисфеном и Периклом, но в полной мере вступившие в силу лишь во времена последнего (460–429 гг. до н. э.). Ведь трудно представить себе, чтобы многочисленные дикастерии и народные собрания могли действовать регулярно, часто и устойчиво без гарантированной платы дикастам. А такая плата впервые была введена как раз около времени Перикла, если не по его прямому предложению [209]; и Демосфен имел все основания утверждать, что, если бы ее отменили, судебная и административная система Афин немедленно [стр. 125] развалилась бы [210].
Было бы чудом – и для веры в такое чудо потребовались бы неопровержимые доказательства, – если бы в эпоху, когда даже ограниченная демократия еще не была испытана, Солон задумал подобные институты. Еще большим чудом было бы, если бы полуэмансипированные феты и мелкие землевладельцы, для которых он создавал законы, – все еще трепетавшие перед евпатридскими архонтами и совершенно неопытные в коллективной деятельности, – внезапно оказались способны исполнять эти высокие функции, с которыми лишь постепенно, и не без труда, справлялись граждане завоевательных Афин времен Перикла, проникнутые чувством силы и активно отождествлявшие себя с достоинством своего государства.
Предполагать, что Солон предусмотрел периодический пересмотр своих законов, учредив номофетическую коллегию или дикастерию, подобную той, что действовала во времена Демосфена, означало бы, на мой взгляд, игнорировать всякую разумную оценку как самого Солона, так и его эпохи. Геродот сообщает, что Солон, взяв с афинян клятву не отменять его законы в течение десяти лет, покинул Афины на этот срок, чтобы не быть вынужденным отменять их самому. Плутарх же пишет, что он установил срок действия своих законов в сто лет [211]. Сам Солон, как и Драконт до него, были законодателями, призванными и уполномоченными в силу чрезвычайных обстоятельств; идея частого пересмотра законов коллегией дикастов, избранных по жребию, принадлежит куда более поздней эпохе и едва ли могла прийти в голову кому-либо из них. Деревянные доски Солона, подобно скрижалям римских децемвиров [212], несомненно задумывались как постоянный «источник всего публичного и частного права».
Если мы рассмотрим факты данного случая, то увидим, что лишь самое основание афинской демократии, какой она существовала во времена Перикла, можно с достаточным основанием приписать Солону. «Я дал народу, – говорит Солон в одном из своих сохранившихся коротких [стр. 126] фрагментов, [213] – столько силы, сколько было достаточно для его нужд, не увеличивая и не умаляя его достоинства: для тех же, кто обладал властью и был известен своим богатством, я позаботился о том, чтобы для них не было уготовано недостойного обращения. Я стоял, бросив крепкий щит над обеими сторонами, чтобы не допустить несправедливого триумфа ни одной из них».
Вновь Аристотель сообщает нам, что Солон предоставил народу не больше власти, чем было строго необходимо, [214] – избирать своих магистратов и привлекать их к отчетности: если бы у народа было меньше этого, нельзя было бы ожидать, что он останется спокойным, – он оказался бы в рабстве и враждебен конституции. Не менее ясно высказывается Геродот, описывая последующий переворот, осуществленный Клисфеном: последний, по его словам, застал [стр. 127] «афинский народ исключенным из всего». [215] Эти отрывки, кажется, прямо противоречат предположению, само по себе маловероятному, что Солон был автором особых демократических институтов Афин, таких как постоянные и многочисленные дикасты для судебных разбирательств и пересмотра законов. Подлинное и прогрессивное демократическое движение Афин начинается только с Клисфена, с того момента, когда этот выдающийся Алкмеонид – либо добровольно, либо оказавшись побежденным в партийной борьбе с Исагором – купил ценой значительных уступок народу искреннее сотрудничество массы в крайне опасных обстоятельствах.
Если Солон, по его собственному утверждению, как и по утверждению Аристотеля, дал народу ровно столько власти, сколько было строго необходимо, но не больше, то Клисфен (используя выразительную фразу Геродота), «потерпев поражение в партийной борьбе со своим соперником, взял народ в долю». [216] Таким образом, своим первым допуском к политическому преобладанию афинский народ был обязан интересам более слабой стороны в борьбе соперничающих аристократов – по крайней мере, отчасти, хотя действия Клисфена указывают на искреннее и добровольное народное чувство.
Но такое конституционное признание народа не было бы столь поразительно плодотворным в положительных результатах, если бы ход общественных событий в течение полувека после Клисфена не стимулировал с огромной силой их энергию, их уверенность в себе, их взаимные симпатии и их честолюбие. В будущей главе я расскажу о тех исторических причинах, которые, воздействуя на афинский характер, придали такую эффективность и размах великому демократическому импульсу, переданному Клисфеном: в настоящее время достаточно заметить, что этот импульс начинается, собственно, с Клисфена, а не с Солона.
[стр. 128] Однако Солонова конституция, хотя и являлась лишь основанием, была тем не менее незаменимым фундаментом последующей демократии; и если бы недовольство несчастного афинского населения, вместо того чтобы испытать на себе его бескорыстное и исцеляющее управление, сразу попало в руки корыстных искателей власти, таких как Килон или Писистрат, то памятное расширение афинского ума в течение последующего столетия никогда бы не произошло, и вся последующая история Греции, вероятно, пошла бы иным путем.
Солон оставил основные рычаги государства все еще в руках олигархии, и партийные битвы – о которых будет рассказано далее – между Писистратом, Ликургом и Мегаклом тридцать лет спустя после его законодательства, завершившиеся деспотизмом Писистрата, окажутся того же чисто олигархического характера, какими они были до его назначения архонтом. Но олигархия, которую он установил, сильно отличалась от неограниченной олигархии, которую он застал, столь переполненной угнетением и лишенной средств правовой защиты, как о том свидетельствуют его собственные стихи.
Именно он впервые предоставил как гражданам со средним достатком, так и широким массам возможность противостоять эвпатридам; он позволил народу частично защищать себя и приучил его к идее самозащиты через мирное использование конституционных прав. Новым инструментом, благодаря которому эта защита осуществлялась, стало народное собрание – гелиэя [217], упорядоченное и наделенное [стр. 129] расширенными прерогативами, а также усиленное своим незаменимым союзником – пробулевтическим, или предварительно обсуждающим, советом. В солоновской конституции эта сила была лишь второстепенной и оборонительной, но после реформ Клисфена она стала верховной и суверенной; постепенно она разветвилась в многочисленные народные дикастерии, которые столь сильно изменили как общественную, так и частную жизнь афинян, привлекли к себе безраздельное почтение и подчинение народа и со временем сделали отдельные магистратуры по сути подчиненными органами.
Народное собрание, учрежденное Солоном, действовавшее с умеренной эффективностью и обученное функции пересмотра и оценки общей деятельности уходящего магистрата, представляет собой промежуточную ступень между пассивной гомеровской агорой и всемогущими собраниями и дикастериями, которые слушали Перикла или Демосфена. По сравнению с последними в нем заметна лишь слабая демократическая черта – и потому оно естественно казалось таковым Аристотелю, писавшему с практическим знанием Афин времен ораторов; но по сравнению с первым или с досолоновским устройством Аттики оно, несомненно, должно было казаться уступкой в высшей степени демократической.
Обязать эвпатридского архонта проходить процедуру избрания или отчитываться перед толпой свободных (именно так выразились бы в среде эвпатридов) было бы горьким унижением для тех, среди кого это впервые вводилось; ведь мы должны помнить, что это была самая масштабная схема конституционной реформы, предложенная к тому времени в Греции, и что весь греческий мир тогда делился между тиранами и олигархиями. Поскольку видно, что Солон, учреждая народное собрание с пробулевтическим советом, не испытывал ревности к ареопагу [стр. 130] и даже расширил его полномочия, можно сделать вывод, что его главной целью было не ослабление олигархии как таковой, а улучшение управления и обуздание злоупотреблений и произвола отдельных архонтов – и притом не путем урезания их власти, а путем установления некоторой степени народного доверия как условия как вступления в должность, так и безопасности и чести после нее.
На мой взгляд, ошибочно полагать, что Солон передал судебную власть архонов народной дикастерии; эти магистраты по-прежнему оставались самостоятельными судьями, выносящими приговоры без апелляции, а не просто председателями собравшегося жюри, каковыми они стали в следующем веке [218]. За общее осуществление этой власти они отчитывались после своего годичного срока, и эта подотчетность была гарантией от злоупотреблений – весьма ненадежной, но не полностью неэффективной. Однако вскоре станет ясно, что эти архонты, хотя и были сильны в принуждении, а возможно, и в угнетении мелких и бедных людей, не имели средств усмирять мятежных [стр. 131] знатных своего же ранга, таких как Писистрат, Ликург и Мегакл, каждый со своими вооруженными сторонниками. Если мы сравним скрещенные мечи этих честолюбивых соперников, приведшие к тирании одного из них, с яростной парламентской борьбой между Фемистоклом и Аристидом позднее, мирно решаемой голосованием суверенного народа и никогда не нарушавшей общественного спокойствия, мы увидим, что демократия последующего века лучше отвечала условиям как порядка, так и прогресса, чем солоновская конституция.
Различать эту солоновскую конституцию и последовавшую за ней демократию необходимо для верного понимания прогресса греческого сознания, особенно в афинских делах. Та демократия была достигнута постепенно, и ее этапы будут описаны далее: Демосфен и Эсхин жили при ней как при завершенной системе, полной активности, когда стадии ее предыдущего роста уже не сохранялись в точной памяти; и дикасты, собиравшиеся тогда для суда, были рады слышать, что конституция, к которой они были привязаны, отождествляется либо с именем Солона, либо с именем Тесея, к которым они питали не меньшую слабость. Их любознательный современник Аристотель не заблуждался так; но даже самые заурядные афиняне предшествующего века избежали бы той же иллюзии.
Ибо на протяжении всего хода демократического движения от Персидского нашествия до Пелопоннесской войны, и особенно во время перемен, предложенных Периклом и Эфиальтом, всегда существовала стойкая партия сопротивления, которая не позволяла народу забыть, что они уже отошли и готовы отойти еще дальше от пути, намеченного Солоном. Великий Перикл подвергался бесчисленным нападкам как со стороны ораторов в собрании, так и со стороны комических поэтов в театре; и среди этих сарказмов по поводу политических тенденций времени, вероятно, стоит упомянуть жалобу поэта Кратина на то, что Солон и Драконт были преданы забвению. «Клянусь, [219] – говорил он во фрагменте одной из своих комедий, – Солоном и Драконтом, чьи деревянные таблицы (законов) теперь используются людьми для поджаривания ячменя».
Законы Солона об уголовных преступлениях, о наследовании и усыновлении, о частных отношениях и т. д. по большей части оставались в силе; его четырехразрядный ценз также сохранялся, по крайней мере для финансовых целей, вплоть до архонтства Навсиника в 377 г. до н. э.; так что Цицерон и другие могли с основанием утверждать, что его законы все еще действовали в Афинах. Но его политические и судебные установления претерпели революцию [220], не менее полную и значительную, чем характер и дух афинского народа в целом.
Выбор архонтов и других магистратов по жребию, а также распределение по жребию общего корпуса дикастов или присяжных на панели для судебных разбирательств определенно не принадлежали Солону, а были приняты после реформы Клисфена [221]; вероятно, по жребию избирались и советники. Жребий был признаком выраженного демократического духа, которого не следует искать в солоновских учреждениях.
Трудно точно определить, каково было политическое положение древних родов и фратрий в том виде, в каком их оставил Солон. Четыре племени полностью состояли из родов и фратрий, так что никто не мог принадлежать ни к одному из племён, не будучи одновременно членом какого-либо рода и фратрии. Новый пробулевтический (предварительно совещательный) совет состоял из четырёхсот членов – по сто от каждого племени: лица, не [p. 133] входившие ни в один род или фратрию, не могли, следовательно, получить в него доступ. Условия избрания были аналогичными, согласно древнему обычаю, и для девяти архонтов – а значит, и для ареопага. Таким образом, оставалось только народное собрание, в котором афинянин, не принадлежавший к этим племенам, мог участвовать. Тем не менее он был гражданином, поскольку мог голосовать за архонтов и членов совета, участвовать в ежегодной проверке их отчётности, а также лично обращаться к архонтам за защитой от несправедливости, – тогда как иностранец мог делать это лишь через посредничество гражданина-покровителя (простата). Следовательно, все лица, не входившие в четыре племени, независимо от их имущественного положения, обладали теми же политическими правами, что и беднейший, четвёртый класс по солоновскому цензу. Уже отмечалось, что ещё до Солона число афинян, не принадлежавших к родам или фратриям, было, вероятно, значительным, и оно продолжало расти, поскольку эти объединения были замкнутыми и не расширялись, в то время как политика нового законодателя способствовала привлечению в Афины трудолюбивых переселенцев из других частей Греции. Такое значительное и усиливавшееся неравенство в политических правах помогает объяснить слабость правительства в противодействии узурпации Писистрата и показывает важность реформы, осуществлённой впоследствии Клисфеном, когда он упразднил (в политических целях) четыре старых племени и создал вместо них десять новых, более всеобъемлющих.
Относительно устройства совета и народного собрания, как их организовал Солон, у нас нет никаких сведений. Также рискованно переносить на солоновскую конституцию сравнительно подробные данные, которые мы имеем об этих органах при позднейшей демократии.
Законы Солона были записаны на деревянных цилиндрах и треугольных табличках (кирбеях) письмом, называемым бустрофедон (строки шли сначала слева направо, затем справа налево, подобно движению пахаря), и первоначально хранились в акрополе, а позже – в пританее. На табличках (кирбеях) были в основном зафиксированы законы, касающиеся священных обрядов и жертвоприношений: [222] на столбах или цилиндрах, которых было [p. 134] не менее шестнадцати, помещались предписания по светским делам. До нас дошли лишь незначительные фрагменты, а ораторы приписали Солону так много из того, что на самом деле относится к более поздним временам, что почти невозможно составить критическое суждение о его законодательстве в целом или понять, какими общими принципами или целями он руководствовался.
Он оставил без изменений все прежние законы и обычаи, касающиеся убийства, поскольку они были тесно связаны с религиозными чувствами народа. Таким образом, законы Драконта по этому вопросу сохранились, но, по словам Плутарха, по всем остальным они были полностью отменены: [223] однако есть основания предполагать, что отмена не могла быть столь всеобъемлющей, как это представляет биограф.
Солоновы законы, по-видимому, затрагивали в большей или меньшей степени все основные сферы человеческих интересов и обязанностей. Мы находим среди них политические и религиозные, публичные и частные, гражданские и уголовные, торговые, сельскохозяйственные, сумptуарные и дисциплинарные установления. Солон устанавливает наказания за преступления, ограничивает профессии и статус гражданина, предписывает детальные правила как для брака, так и для погребения, для общего пользования источниками и колодцами, а также для взаимных интересов соседних землевладельцев при ограждении или посадках на своих участках. Насколько можно судить по фрагментарным данным, дошедшим до нас, в его законах не прослеживается попытки систематизировать или классифицировать их. Некоторые представляют собой лишь общие и расплывчатые предписания, в то время как другие, напротив, вдаются в крайнюю степень детализации. [p. 135]
Безусловно, самым важным из всех было изменение закона о должниках и кредиторах, о котором уже упоминалось, а также отмена права отцов и братьев продавать своих дочерей и сестер в рабство. Запрет всех договоров, обеспечивавшихся личной свободой, сам по себе был достаточен для значительного улучшения характера и положения беднейшего населения – результат, который, судя по всему, так явно проистекал из законодательства Солона, что Бёк и некоторые другие выдающиеся авторы предполагают, будто он отменил крепостное право и даровал бедным арендаторам собственность на их земли, аннулировав сеньориальные права землевладельцев. Однако это мнение не подкреплено никакими прямыми доказательствами, и у нас нет оснований приписывать ему более радикальные меры в отношении земли, кроме отмены прежних залоговых обязательств. [224]
Первый столп его законов содержал постановление относительно экспортируемой продукции. Он запретил вывоз всех продуктов аттической почвы, за исключением одного лишь оливкового масла, а санкция, применявшаяся для обеспечения соблюдения этого закона, заслуживает внимания как иллюстрация представлений того времени: архонт был обязан под угрозой штрафа в сто драхм произносить торжественные проклятия против каждого нарушителя. [225] Вероятно, это запрещение следует рассматривать в связи с другими целями, которые, как утверждается, преследовал Солон, особенно с поощрением ремесленников и производителей в Афинах. Как сообщается, заметив, что многие новые переселенцы как раз тогда стекались в Аттику в поисках убежища из-за её большей безопасности, он стремился направить их скорее к промышленной деятельности, чем к возделыванию от природы бедной почвы. [226] Он запретил предоставлять гражданство любым переселенцам, кроме тех, кто безвозвратно покинул прежние места проживания и прибыл в Афины для занятия каким-либо производительным ремеслом; а чтобы предотвратить праздность, он предписал ареопагу наблюдать за жизнью граждан в целом и наказывать каждого, у кого не было постоянного труда для обеспечения себя. Если отец не обучил сына какому-либо ремеслу или профессии, Солон освобождал сына от обязанности содержать его в старости. И именно для поощрения умножения числа таких ремесленников он обеспечил (или стремился обеспечить) жителям Аттики монополию на все продукты земли, кроме оливкового масла, которого производилось в избытке, более чем достаточно для их нужд. Он желал, чтобы торговля с иностранцами велась путем экспорта продукции ремесленного труда, а не продуктов земли. [227]
Этот торговый запрет основан на принципах, в сущности схожих с теми, которыми руководствовались в ранней истории Англии в отношении как зерна, так и шерсти, а также в других европейских странах. Поскольку он вообще имел какое-то действие, он способствовал уменьшению общего количества продукции, производимой на земле Аттики, и тем самым удерживал её цену от роста – цель менее спорная (если допустить, что законодатель вообще должен вмешиваться), чем цель наших недавних Хлебных законов, которые были призваны не допустить падения цен на зерно. Однако закон Солона, должно быть, оставался совершенно неэффективным в отношении основных предметов человеческого пропитания; ведь Аттика ввозила в больших количествах и постоянно зерно и соленые продукты, вероятно, также шерсть и лён для прядения и ткачества женщин и, несомненно, строевой лес. Можно сомневаться, применялся ли этот закон когда-либо к фигам и меду; по крайней мере, в более поздние времена эти продукты Аттики повсеместно потреблялись и славились по всей Греции. Вероятно также, что во времена Солона серебряные рудники Лавриона едва ли начали разрабатываться: впоследствии они стали весьма продуктивными и обеспечили Афины товаром для внешних платежей, не менее удобным, чем доходным. [228]
Интересно отметить стремление как Солона, так и Драконта привить своим согражданам трудолюбивые и самостоятельные привычки [229]; позже мы увидим, что те же идеи провозглашал Перикл в период наивысшего могущества Афин. Нельзя обойти вниманием и это раннее проявление в Аттике справедливого и терпимого отношения к оседлым ремёслам, которые в большинстве других регионов Греции считались сравнительно недостойными. Общий тон греческого общественного мнения признавал полностью достойными свободного гражданина лишь занятия, связанные с военным делом, земледелием, атлетическими и музыкальными упражнениями; действия спартанцев, которые избегали даже земледелия, поручая его илотам, вызывали восхищение, хотя и не могли быть воспроизведены в большей части эллинского мира. Даже такие умы, как Платон, Аристотель и Ксенофонт, в значительной степени разделяли это мнение, оправдывая его тем, что сидячий образ жизни и непрерывная домашняя работа ремесленника несовместимы с военной подготовкой: городские занятия обычно обозначались словом, несущим презрительный оттенок, и, хотя признавались необходимыми для существования города, считались подходящими лишь для низшего и полупривилегированного класса граждан. Это общепринятое мнение [стр. 138] среди греков, как и среди иностранцев, встретило сильное и растущее противодействие в Афинах, как я уже отмечал, – что подтверждается схожими настроениями в Коринфе [230].
Торговля Коринфа, как и Халкиды на Эвбее, была обширной в то время, когда афинская торговля едва существовала. Однако если деспотизм Периандра едва ли способствовал развитию промышленности в Коринфе, то современное ему законодательство Солона обеспечило торговцам и ремесленникам новый дом в Афинах, впервые поощрив рост городского населения как в самом городе, так и в Пирее, которое мы видим там в следующем веке. Увеличение числа таких городских жителей, как граждан, так и метеков (неполноправных лиц), стало ключевым фактором в продвижении Афин вперёд, поскольку оно определило не только расширение её торговли, но и преобладание её военно-морских сил – а следовательно, придало дополнительную силу её демократическому правительству. Кроме того, это стало отходом от изначального духа аттицизма, который тяготел к кантонному проживанию и сельским занятиям. Поэтому тем интереснее отметить первое упоминание об этом как о следствии законодательства Солона.
Солону впервые принадлежит заслуга введения в Афинах права завещательного распоряжения имуществом во всех случаях, когда у человека не было законных детей. Согласно ранее существовавшему обычаю, можно предположить, что если умерший не оставлял ни детей, ни кровных родственников, его имущество переходило, как в Риме, к его роду и фратрии [231]. В большинстве неразвитых обществ завещательная свобода была неизвестна – как у древних германцев, у римлян до законов XII таблиц, в древних законах индусов [232] и т. д. Общество ограничивало интерес человека или его право на [стр. 139] пользование имуществом сроком его жизни и считало, что его родственники имеют совместные права на наследство, которые вступают в силу после его смерти в определённых пропорциях; и такая точка зрения тем более вероятна для Афин, поскольку сохранение семейных священных обрядов, в которых дети и близкие родственники участвовали по праву, рассматривалось афинянами как вопрос как общественного, так и частного значения. Солон разрешил каждому человеку, умирающему без детей, завещать своё имущество по своему усмотрению, и завещание имело силу, если только не было доказано, что оно было составлено под принуждением или обманным путём. В целом это оставалось законом на протяжении всей исторической эпохи Афин. Сыновья, если они были, наследовали имущество отца в равных долях, с обязательством выдать своих сестёр замуж с определённым приданым. Если сыновей не было, то наследовали дочери, хотя отец мог по завещанию, в определённых пределах, назначить человека, за которого они должны выйти замуж, с прикреплёнными к ним правами наследования; или же, с согласия дочерей, мог распорядиться своим имуществом иным образом. Человек, не имевший детей или прямых потомков, мог завещать своё имущество по своему желанию: если он умирал без завещания, сначала наследовал его отец, затем брат или дети брата, далее – сестра или дети сестры; если таковых не было, то двоюродные родственники по отцовской линии, затем по материнской – при этом мужская линия имела приоритет над женской. Таков был принцип солоновых законов о наследовании, хотя детали во многом остаются неясными и спорными [233].











