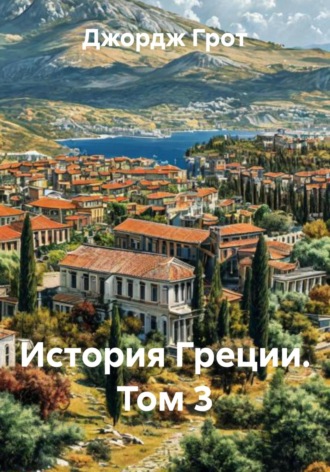
Полная версия
История Греции. Том 3
Что касается всей меры сисахфии, то, хотя стихи Солона были доступны каждому, древние авторы давали разные описания как её сути, так и её масштабов. Большинство из них толковали её как отмену всех денежных договоров без разбора; тогда как Андротион и другие считали, что она лишь снизила процентную ставку и обесценила валюту на двадцать семь процентов, оставив букву договоров неизменной. Как Андротион пришёл к такому мнению, нам трудно понять, ибо сохранившиеся фрагменты Солона, кажется, явно опровергают его, хотя, с другой стороны, они не заходят так далеко, чтобы подтвердить полную противоположную точку зрения, высказанную многими писателями, – что все денежные договоры без разбора были аннулированы [182]: против чего есть также дополнительное основание, что, будь это так, у Солона не было бы мотива снижать денежный стандарт. Такое обесценивание предполагает, что должны были быть по крайней мере некоторые должники, чьи договоры оставались в силе, и которых он, тем не менее, хотел частично поддержать. Его стихи ясно упоминают три вещи: 1. Удаление закладных столбов. 2. Освобождение земли. 3. Защиту, освобождение и восстановление в правах личностей должников, находящихся в опасности или рабстве. Все эти выражения явно указывают на фетов и мелких землевладельцев, чьи страдания и опасности были наиболее острыми и чей случай требовал немедленного и полного решения: мы видим, что его отказ от долгов зашёл достаточно далеко, чтобы освободить их, но не дальше.
Кажется, именно уважение к личности Солона отчасти стало причиной различных заблуждений относительно его законов по облегчению участи должников: Андротион в древности и некоторые авторитетные современные критики стремятся доказать, что он помог должникам без ущерба или несправедливости по отношению к кому-либо. Но это мнение совершенно неприемлемо: убытки кредиторов из-за массовой отмены множества ранее заключенных договоров и частичного обесценивания монеты – факт, который нельзя скрыть. Сисахфия Солона, несправедливая в той мере, в какой она отменяла прежние соглашения, но крайне благотворная по своим последствиям, может быть оправдана лишь тем, что никаким иным способом нельзя было сохранить узы [p. 104] государства или облегчить страдания народа.
Следует учитывать, во-первых, крайнюю личную жестокость этих прежних договоров, которые обрекали свободного должника и его семью на рабство; во-вторых, глубокую ненависть, которую такая система вызывала у широких масс бедняков как к судьям, так и к кредиторам, её применявшим, – ненависть, сделавшую их чувства неконтролируемыми, как только они объединились перед лицом общей опасности с решимостью обеспечить взаимную защиту. Более того, закон, дающий кредитору власть над личностью должника вплоть до обращения его в рабство, способствует появлению класса займов, вызывающих лишь отвращение, – денег, данных взаймы с заранее известной невозможностью их возврата, но с уверенностью, что стоимость личности должника как рана покроет убыток, низводя его тем самым до крайней нищеты ради возвеличивания или обогащения кредитора.
Между тем основа уважения к договорам в рамках хорошего закона о должниках и кредиторах прямо противоположна: она зиждется на твёрдом убеждении, что такие договоры выгодны для обеих сторон как класса и что подрыв доверия, необходимого для их существования, нанесёт огромный вред всему обществу. Человек, ныне глубже всех чтящий обязательность договора, испытывал бы совсем иные чувства, наблюдая отношения заимодавцев и должников в Афинах при старом допесолоновом законе.
Олигархия изо всех сил старалась сохранить этот закон о должниках и кредиторах с его пагубными договорами, и единственной причиной, по которой они согласились призвать Солона, была утрата возможности его дальнейшего применения из-за пробудившегося единства и мужества народа. То, что они не смогли сделать сами, Солон не смог бы сделать за них, даже если бы захотел; у него также не было средств ни освободить, ни компенсировать тех кредиторов, которые, взятые по отдельности, не заслуживали упрёка. Более того, из его действий ясно видно, что он считал необходимым возмещение не кредиторам, а искупление прошлых страданий enslaved должников, поскольку выкупил многих из них из иностранного [p. 105] плена и вернул на родину.
Бесспорно, что никакая исключительно перспективная мера не смогла бы разрешить кризис: было абсолютно необходимо отменить весь класс прежних прав, породивших столь жестокий социальный кризис. Поэтому, хотя в этой части сисахфию нельзя оправдать от несправедливости, мы можем уверенно утверждать, что причинённая несправедливость была неизбежной платой за сохранение общественного мира и окончательную отмену губительной системы в отношении несостоятельных должников. [183]
Современное европейское законодательство и общественное мнение, запрещая заранее любые договоры о продаже личности человека или его детей в рабство, практически санкционируют солонову отмену долгов.
Одно важно помнить об этой мере в сочетании с поправками, внесёнными Солоном в закон: она окончательно решила проблему, к которой относилась. Более мы не слышим о законе о должниках и кредиторах как источнике беспокойства в Афинах. Общественное мнение, сложившееся в Афинах при солоновом денежном законе и демократическом правлении, отличалось глубоким уважением к святости договоров.
Не только не было в афинской демократии требований новых таблиц или обесценивания денежной единицы, но и формальный отказ от подобных проектов был включён в ежегодную присягу многочисленных дикастов, составлявших народный судебный орган – гелиэю, или гелиастических присяжных. Та же присяга, обязывавшая их [p. 106] поддерживать демократическую конституцию, запрещала им одобрять любые предложения об отмене долгов или переделе земель. [184]
Не подлежит сомнению, что при Солоновом законе, позволявшем кредитору взыскивать имущество должника, но не дававшем власти над его личностью, система займов приобрела более благотворный характер: прежние пагубные договоры, простые ловушки для свободы бедняка и его детей, исчезли, а их место заняли денежные займы, основанные на имуществе и будущих доходах должника, которые в основном были полезны обеим сторонам и потому сохранили своё место в общественной морали.
И хотя Солон был вынужден отменить все существовавшие в его время земельные залоги, мы видим, что в историческую эпоху [p. 107] Афин деньги свободно давались под залог земли, а свидетельствующие об этом залоговые столбы оставались нетронутыми.
В духе раннего общества, как и в древнеримском праве, обычно проводится различие между основной суммой займа и процентами, хотя кредиторы стремились неразрывно сливать их воедино. Если заемщик не может выполнить свое обещание вернуть основную сумму, общество будет считать, что он совершил проступок, который должен искупить своей личностью; но нет такого единодушия в отношении его обязательства платить проценты: напротив, само взимание процентов многими будет рассматриваться так же, как английское право рассматривает ростовщические проценты – как порочащую всю сделку. Однако в современном сознании основная сумма и проценты (в пределах ограниченной ставки) настолько срослись, что нам трудно понять, как могло считаться недостойным честного гражданина давать деньги под проценты; тем не менее, таково было открыто выраженное мнение Аристотеля и других выдающихся людей древности, а римский цензор Катон пошел так далеко, что объявил эту практику тяжким преступлением. [185] Они включали ее в число худших видов торговых уловок – и считали, что вся торговля или прибыль, полученная от обмена, противоестественна, поскольку извлекается одним человеком за счет другого: поэтому такие занятия не могли быть одобрены, хотя и могли терпимо допускаться в определенной степени как необходимость, но по сути принадлежали низшему разряду граждан. [186] Примечательно в [стр. 108] Греции то, что антипатия очень раннего состояния общества к торговцам и ростовщикам сохранялась среди философов дольше, чем среди массы народа – она больше гармонировала с социальным идеалом первых, чем с практическими инстинктами последних.
В примитивном состоянии, таком как у древних германцев, описанных Тацитом, займы под проценты неизвестны: привычно беззаботные о будущем, германцы радовались как дарению, так и получению подарков, но без мысли о том, что они тем самым налагают или берут на себя обязательство. [187] Для народа с таким укладом мыслей заем под проценты вызывает отталкивающую идею извлечения выгоды из бедственного положения заемщика; более того, стоит отметить, что первые заемщики, как правило, были людьми, вынужденными к этому крайней нуждой и влезавшими в долг как в отчаянное средство, без реальных перспектив возврата: долг и голод идут рука об руку в представлении поэта Гесиода. [188] Заемщик в этом не [стр. 109] счастном состоянии скорее несчастный, умоляющий о помощи, чем платежеспособный человек, способный заключить и выполнить договор; и если он не найдет друга, который сделает ему безвозмездный подарок в первом качестве, то во втором качестве он не получит займа у постороннего иначе, как под обещание чрезмерных процентов [189] и с предоставлением кредитору полной власти над своей личностью.
Со временем появляется новый класс заемщиков, [стр. 110] которые берут деньги для временных нужд или выгоды, но с полной перспективой возврата – отношение кредитора и заемщика совершенно иное, чем в прежние времена, когда оно представлялось в отталкивающей форме: нужда с одной стороны и возможность огромной прибыли с другой. Если бы германцы времен Тацита увидели положение бедных должников в Галлии, ввергнутых в рабство богатым кредитором и пополнявших сотнями толпу его слуг, они вряд ли пожалели бы о своем незнании практики денежных займов. [190] Насколько проценты тогда считались неоправданной прибылью, вымогаемой у нуждающихся, ярко иллюстрирует древний еврейский закон, разрешавший еврею брать проценты с иностранцев (которых законодатель не считал нужным защищать), но не с соплеменников. [191] [стр. 112] Коран последовательно развивает эту точку зрения и полностью запрещает взимание процентов. В большинстве других народов законы ограничивали процентную ставку, и особенно в Риме законная ставка постепенно снижалась – хотя, как и следовало ожидать, ограничительные постановления постоянно обходились. Все такие ограничения были предназначены для защиты должников; однако, как показывает обширный опыт, они никогда не достигали этого эффекта, если только не считать защитой сделать получение займа невозможным для самых отчаявшихся заемщиков. Но был другой эффект, который они действительно производили – они смягчали изначальную антипатию к самой практике и ограничивали ненавистное название «ростовщичества» лишь займами сверх установленной законом ставки.
Только таким образом они могли действовать благотворно, и их тенденция противодействовать прежним чувствам была в то время немаловажной, совпадая с другими тенденциями, вытекающими из промышленного прогресса общества, который постепенно представлял отношения кредитора и заемщика в более взаимовыгодном свете, менее отталкивающем для стороннего наблюдателя. [192]
В Афинах на протяжении всей исторической эпохи возобладала более благоприятная точка зрения – развитие промышленности и торговли в рамках смягченного законодательства, установившегося после Солона, уже в очень ранний период привело к исчезновению общественной неприязни к кредиторам, дававшим деньги под проценты. [193] Можно также отметить, что эта более справедливая позиция сформировалась спонтанно, без каких-либо законодательных ограничений [стр. 113] процентной ставки – подобные ограничения никогда не вводились, а сама ставка была официально объявлена свободной законом, приписываемым самому Солону. [194] Вероятно, то же самое можно сказать и о других греческих общинах – по крайней мере, нет данных, которые заставили бы нас предположить обратное.
Однако неприязнь к выдаче денег под проценты сохранялась в умах философов еще долго после того, как она перестала быть частью практической морали граждан и после того, как перестала оправдываться теми обстоятельствами, которые изначально ее породили. Платон, Аристотель, Цицерон [195] и Плутарх рассматривают эту практику как проявление торгового и стяжательского духа, который они стремились осудить; одним из следствий этого стало то, что они были менее склонны решительно отстаивать нерушимость денежных обязательств. Консервативные настроения в этом вопросе были сильнее среди широких масс, чем среди философов. Платон даже жалуется на то, что они неудобно преобладают [196] и сковывают законодателя в его масштабных реформаторских проектах.
В большинстве случаев планы отмены долгов и передела земель выдвигались лишь людьми отчаянными и честолюбивыми, которые использовали их как ступень к деспотической власти. Такие личности осуждались как здравым смыслом общества, так и мыслителями-теоретиками. Но когда мы обращаемся к примеру спартанского царя Агиса III, предложившего полную отмену долгов и равный передел [стр. 114] земельной собственности государства – не из корыстных или личных побуждений, а исходя из чистых, пусть и не всегда верно понятых, патриотических идей, с целью восстановления утраченного могущества Спарты, – мы видим, что Плутарх [197] выражает безоговорочное восхищение этим молодым царем и его замыслами, а сопротивление ему объясняет низменной жадностью.
Философы, размышлявшие о политике, полагали – и во многом справедливо, как я покажу далее, – что условия безопасности в древнем мире требовали от граждан постоянной поддержки воинского духа и готовности терпеть лишения. Поэтому рост богатства, обычно ведущий к росту изнеженности, вызывал у них неодобрение. Если, по их оценке, какая-либо греческая община приходила в упадок, они были готовы оправдать серьезное вмешательство в существующие права, чтобы приблизить ее к своему идеалу. Реальной же гарантией сохранения этих прав были консервативные настроения большинства граждан, а не взгляды, которые выдающиеся умы заимствовали у философов.
В поздней афинской демократии эти консервативные чувства были особенно глубоки: афинский народ неразрывно связывал защиту собственности во всех ее формах с защитой своих законов и конституции. Примечательно, что, хотя восхищение Солоном в Афинах было всеобщим, принципы его сисахфии (отмены долгов) и обесценивания денег не только никогда не повторялись, но и встречали молчаливое осуждение. В то же время в Риме, как и в большинстве королевств современной Европы, одна порча монеты следовала за другой – соблазн частично избежать финансовых трудностей после первого успешного опыта оказывался слишком сильным, и монета в результате последовательных обесцениваний уменьшилась с полного фунта (12 унций) до половины унции. Этот факт [стр. 115] стоит отметить, особенно если вспомнить, как римские писатели превратили «греческую верность» в символ мошенничества в денежных делах. [198]
Афинская демократия – да и греческие города вообще, будь то олигархии или демократии, – стоят гораздо выше римского сената, а также королевств Франции и Англии вплоть до недавнего времени в вопросах честности денежного обращения. [199] Более того, в то время как в Риме происходили политические перемены, приводившие к новым таблицам [200] или хотя бы к частичному обесцениванию обязательств, в Афинах за три века между Солоном и концом свободного существования демократии ничего подобного не случалось.
Конечно, в Афинах были должники-мошенники, и хотя частное право никак не потакало их действиям, судебная система была далека от совершенства и не могла подавить их так эффективно, как хотелось бы. Однако общественное мнение по этому вопросу было твердым и справедливым, и можно с уверенностью утверждать, что кредит в Афинах был столь же надежным, как и в любом другом месте и эпохе древнего мира – несмотря на то, что Рим обладал важным преимуществом в виде накопления авторитетных юридических прецедентов, которые легли в основу римского права. Среди различных причин волнений и беспорядков в греческих общинах [201] давление частных долгов упоминается редко.
Благодаря описанным выше мерам облегчения [202] Солон достиг результатов, превзошедших его самые смелые ожидания. Он исцелил преобладающее недовольство; и такая уверенность и благодарность им были внушены, что теперь его призвали разработать конституцию и законы для лучшего функционирования [стр. 117] правительства в будущем. Его конституционные изменения были значительными и ценными; что касается его законов, то то, что мы о них слышим, скорее любопытно, чем важно.
Уже было сказано, что до времен Солона в Аттике существовало деление на четыре ионийских филы, включавших, с одной стороны, фратрии и роды, а с другой – три триттии и сорок восемь навкрарий, – тогда как эвпатриды, по-видимому, несколько особо уважаемых родов и, возможно, несколько выдающихся семей во всех родах, держали в своих руках всю власть. Солон ввел новый принцип классификации, называемый по-гречески тимократическим принципом. Он распределил всех граждан фил, без учета их родов или фратрий, на четыре класса в соответствии с размером их имущества, которое велел оценить и внести в публичный реестр. Тех, чей годовой доход составлял пятьсот медимнов зерна (около семисот имперских бушелей) и более, – причем один медимн считался эквивалентным одной драхме в денежном выражении, – он поместил в высший класс; те, кто получал от трехсот до пятисот медимнов, или драхм, составляли второй класс; а те, у кого доход был между двумястами и тремястами, – третий [203]. Четвертый и самый многочисленный класс включал всех, кто не владел землей, дающей урожай, равный двумстам медимнам.
Первый класс, называемый пентакосиомедимнами, имел исключительное право занимать должности архонтов и все командные посты; второй класс назывался всадниками, так как они обладали достаточным состоянием, чтобы содержать лошадь и нести военную службу в этом качестве; третий класс, зевгиты, составлял тяжеловооруженную пехоту и был обязан служить в полном вооружении. Каждый из этих трех классов был внесен в публичный [стр. 118] реестр как обладающий налогооблагаемым капиталом, рассчитанным с определенным учетом его годового дохода, но в пропорции, уменьшающейся в зависимости от масштаба этого дохода, – и человек платил налоги государству в соответствии с суммой, по которой он был оценен в реестре; таким образом, этот прямой налог действовал фактически как прогрессивный подоходный налог.
Налогооблагаемая собственность граждан, принадлежащих к самому богатому классу, пентакосиомедимнов, рассчитывалась и вносилась в государственный реестр как капитал, равный двенадцатикратному годовому доходу; у всадника (гиппея) – десятикратному; у зевгита – пятикратному. Таким образом, пентакосиомедимн с доходом ровно в пятьсот драхм (минимальный порог для его класса) оценивался в реестре как обладатель налогооблагаемой собственности в шесть тысяч драхм, или один талант (в двенадцать раз больше его дохода). Если его годовой доход составлял тысячу драхм, он оценивался в двенадцать тысяч драхм, или два таланта (та же пропорция дохода к налогооблагаемому капиталу). Но когда мы переходим ко второму классу, всадникам, пропорция меняется: всадник с доходом ровно в триста драхм (или триста медимнов) оценивался в три тысячи драхм (десятикратный доход), и так же для любого дохода между тремястами и пятьюстами.
В третьем классе пропорция снова изменялась: зевгит с доходом ровно в двести драхм оценивался по еще более низкому расчету – в тысячу драхм (пятикратный доход), и все доходы этого класса (от двухсот до трехсот драхм) аналогично умножались на пять для определения налогооблагаемого капитала.
На эти соответствующие суммы зарегистрированного капитала накладывался прямой налог: если государству требовался один процент прямого налога, беднейший пентакосиомедимн платил (с шести тысяч драхм) шестьдесят драхм; беднейший всадник (с трех тысяч) – тридцать; беднейший зевгит (с тысячи) – десять драхм. Таким образом, этот метод налогообложения действовал как прогрессивный подоходный налог, если рассматривать его в отношении трех разных классов, – но как равный подоходный налог, если рассматривать его в [стр. 119] отношении отдельных лиц внутри одного и того же класса [204].
Все лица в государстве, чей годовой доход составлял менее [стр. 120] двухсот медимнов (или драхм), относились к четвертому классу, и они, должно быть, составляли подавляющее большинство населения. Они не облагались прямыми налогами и, возможно, изначально даже не вносились в налогооблагаемый реестр, тем более что мы не знаем, взимались ли какие-либо налоги по этому реестру во времена Солона. Говорят, что все они назывались фетами, но это утверждение плохо подтверждается и не может быть принято: четвертая категория в нисходящей шкале действительно называлась фетским цензом, потому что включала всех фетов и потому что большинство ее членов принадлежало к этому скромному разряду; но трудно представить, чтобы землевладелец, чья земля приносила ему чистый годовой доход в сто, сто двадцать, сто сорок или сто восемьдесят драхм, мог бы когда-либо обозначаться этим именем [205].
Таковы были подразделения на политической шкале, установленной Солоном, названной Аристотелем тимократией, где права, почести, функции и обязанности граждан определялись в соответствии с имущественным цензом каждого. Хотя шкала представлена так, будто учитывалась только земельная собственность, вероятнее предположить, что в неё включалось и другое имущество, поскольку она служила основой для налогообложения.
Высшие государственные почести – то есть должности девяти ежегодно избираемых архонтов, а также места в ареопагском совете, куда входили все бывшие архонты, – возможно, также должности пританов навкрарий – были зарезервированы за первым классом. Бедные эвпатриды лишались права занимать эти должности, тогда как богатые не-эвпатриды получали доступ.
Другие, менее значимые должности занимали представители второго и третьего классов, которые, кроме того, несли военную службу: [стр. 121] первые – в коннице, вторые – в тяжелой пехоте. Более того, литургии государства – неоплачиваемые обязанности, такие как триерархия, хорегия, гимнасиархия и т. д., требовавшие от исполняющих их расходов и усилий, – распределялись между членами первых трёх классов, хотя точный механизм распределения в те ранние времена неизвестен.
Четвёртый, низший класс, напротив, не имел права занимать какие-либо индивидуальные должности, не исполнял литургий, служил в войске лишь как легковооружённый воин (иногда в паноплии, предоставленной государством) и не платил прямого имущественного налога (эйсфоры). Было бы неверно утверждать, что они вообще не платили налогов: косвенные налоги, такие как пошлины на импорт, ложились на них наравне с остальными. При этом стоит помнить, что в течение долгого периода афинской истории косвенные налоги взимались регулярно, тогда как прямые – лишь в исключительных случаях.
Но хотя четвёртый класс, составлявший численное большинство свободного населения, был отстранён от индивидуальных должностей, его коллективное значение было усилено другим способом. Ему было предоставлено право избирать ежегодных архонтов из класса пентакосиомедимнов, а что ещё важнее – архонты и другие магистраты по истечении срока полномочий стали отчитываться не перед ареопагом, а перед народным собранием, которое могло судить их за прошлые действия. Они могли быть привлечены к ответственности, обязаны оправдываться, наказаны за проступки и лишены почётного права заседать в ареопаге.
Если бы народное собрание действовало самостоятельно, без руководства, эта подотчётность осталась бы формальной. Но Солон придал ей реальную силу, создав ещё один новый институт, сыгравший впоследствии ключевую роль в развитии афинской демократии. Он учредил пробулевтический совет (предварительно рассматривающий дела), тесно связанный с народным собранием: он готовил вопросы для обсуждения, созывал и контролировал собрания, а также следил за исполнением решений. Этот совет, как первоначально установил [стр. 122] Солон, состоял из 400 членов, поровну избираемых от четырёх фил – не по жребию (как это будет в более развитой демократии), а голосованием, как тогда избирали архонтов. При этом представители четвёртого, беднейшего класса, хотя и участвовали в выборах, сами не могли быть избраны.
Создавая новый пробулевтический совет, подчинённый народному собранию, Солон не умалял значения прежнего ареопага. Напротив, он расширил его полномочия, дав ему общий надзор за исполнением законов, а также цензорские функции – контроль над образом жизни и занятиями граждан, включая наказание за праздность и распутство. Сам Солон, как бывший архонт, входил в этот древний совет, и, по некоторым сведениям, он считал, что два совета, подобно двойному якорю, обеспечат устойчивость государства перед любыми потрясениями. [206]











