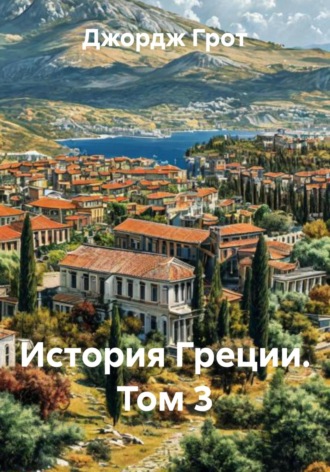
Полная версия
История Греции. Том 3
Хотя это древнее четырёхчастное деление на филы в целом понятно, сложно согласовать его с той раздробленностью управления, которая, как мы знаем, изначально преобладала среди жителей Аттики. От Кекропа до Тесея, пишет Фукидид, в Аттике существовало множество отдельных городов, каждый из которых был автономен и самоуправляем, имел свой пританей и своих архонтов; и лишь в случае общей опасности эти общины собирались на совет под властью афинских царей, чей город в те времена ограничивался лишь священной скалой Афины на равнине [110] – впоследствии ставшей акрополем разросшихся Афин – и небольшой территорией к югу от неё. Именно Тесей, по его словам, осуществил великую революцию, объединив всю Аттику под одной властью, так что все местные магистратуры и советы стали подчиняться пританею и совету Афин. Его мудрость и сила заставили всех жителей Аттики признать Афины единственным городом страны, а свои поселения – лишь составными частями афинской территории. Это важное событие, естественно, привело к расширению центрального города и в исторические времена commemorровалось афинянами на празднике Синойкии в честь богини Афины [111].
Вот рассказ Фукидида о первоначальной раздробленности и последующем объединении различных частей Аттики. В общих чертах факт не вызывает сомнений, хотя указанная историком движущая сила – могущество и мудрость Тесея – относится к легенде, а не к истории. Мы также не можем точно определить ни реальные этапы этого преобразования, ни его дату, ни количество частей, из которых сложилась зрелая Афинская держава, – дополнительно расширенная в ранний период (хотя неизвестно когда) добровольным присоединением беотийского или полубеотийского города Элевфер, расположенного в долинах Киферона между Элевсином и Платеями.
Вплоть до Пелопоннесской войны [112] жители Аттики сохраняли обычай селиться в своих отдельных областях (демах), где древние праздники и храмы оставались реликтами прежней автономии. Они посещали город лишь по особым случаям – для религиозных или политических целей [стр. 70], продолжая считать сельское жилище своим настоящим домом. Глубина этой региональной привязанности видна из того, что она пережила временное изгнание во время персидского нашествия и возродилась, когда изгнание захватчиков позволило им восстановить разрушенные жилища в Аттике [113].
Сколько из демов, признанных Клисфеном, изначально имели самостоятельное управление или в какие территориальные объединения они входили, теперь установить невозможно. Следует помнить, что сам город Афины включал несколько демов, а Пирей также был отдельным демом. Некоторые из двенадцати частей, которые Филохор приписывает Кекропу, носят следы древней самостоятельности: Кекропия (регион вокруг и включая город и акрополь); Тетраполис (состоявший из Энои, Трикорифона, Пробалинфа и Марафона) [114]; Элевсин; Афидны и Декелея [115], отмеченные особыми мифическими связями со Спартой и Диоскурами. Однако трудно представить, что Фалер (один из отдельных округов по Филохору) когда-либо был автономен от Афин. Более того, среди некоторых демов, не упомянутых Филохором, встречаются свидетельства [стр. 71] устойчивой вражды и запретов на межбрачия, что может указывать на их прежнюю независимость [116].
Хотя в большинстве случаев легенды и религиозные обряды, уникальные для каждого дема [117], мало что проясняют, в случае Элевсина они настолько примечательны, что подтверждают вероятную автономию этого города вплоть до относительно позднего периода. Гомеровский гимн Деметре, повествующий о посещении богиней Элевсина после похищения её дочери и об учреждении Элевсинских мистерий, называет эпонимного князя Элевсина и местных вождей – Келея, Триптолема, Диокла и Евмолпа. В нём также упоминается Рарийская равнина близ Элевсина, но нет ни малейшего намёка на Афины или участие афинян в культах богини. Есть основания полагать, что во время создания этого гимна Элевсин был независимым городом. Точную дату установить невозможно, хотя Фосс относит её к 30-й Олимпиаде [118]. Это доказательство тем ценнее, что гимн Деметре имеет строго локальный колорит. Кроме того, рассказ Солона Крёзу о афинянине Телле, погибшем в битве с элевсинцами [119], также предполагает их раннюю независимость.
Небезынтересно отметить, что даже около 300 г. до н. э. наблюдательный Дикеарх отмечал различия между коренными афинянами и аттиками – как в чертах лица, так и в характере и вкусах [120].
В изложенной истории деяний Тесея нет упоминания о четырёх ионийских филах; вместо этого нам сообщается о совершенно ином делении народа на эвпатридов, геоморов и демиургов, которое он якобы ввёл. Дионисий Галикарнасский приводит лишь двойное деление – эвпатриды и зависимые земледельцы, аналогичное его представлению о патрициях и клиентах в раннем Риме [121]. Насколько можно понять, это тройное деление не связано с упомянутыми четырьмя филами.
Эвпатриды – богатые и влиятельные люди, принадлежавшие к знатнейшим родам всех фил и в основном проживавшие в Афинах после объединения Аттики. Простонародье грубо делилось на земледельцев и ремесленников. Эвпатридам приписывалась религиозная, политическая и социальная власть; они считались источником авторитета в священных и мирских делах [122]. Вероятно, к ним относились такие роды, как Бутады, чьи обряды пользовались особым почтением. Можно представить Евмолпа, Келея, Диокла и других из гимна Деметре в качестве эвпатридов Элевсина. Более скромные роды и их члены в этой классификации смешивались с теми, кто не принадлежал ни к одному роду.
Из этих эвпатридов исключительно и, несомненно, по их выбору, назначались девять ежегодных архонтов – вероятно, также и пританы [p. 73] навкрарий. Естественно предположить, что совет ареопага состоял из членов того же сословия: все девять архонтов входили в него по истечении своего годичного срока полномочий при условии успешного прохождения проверки отчётности и оставались его членами пожизненно. Это единственные политические власти, о которых мы слышим в самый ранний, плохо известный период афинского правления после упразднения царской власти и введения ежегодной смены архонтов. Совет ареопага, по-видимому, представляет собой гомеровский совет старейшин; [123] и, несомненно, в особых случаях созывались народные собрания, носившие такой же формальный и пассивный характер, как гомеровская агора, – по крайней мере, мы заметим следы таких собраний до законодательства Солона. Некоторые античные авторы приписывали создание ареопага Солону, подобно тому как были и те, кто считал, что Ликург впервые учредил спартанскую герусию. Однако едва ли можно сомневаться, что это ошибка, и что ареопаг – это древнейший институт, существовавший с незапамятных времён, хотя его состав и функции претерпели множество изменений. Изначально он был единственным постоянным коллегиальным органом власти, сначала существовавшим наряду с царями, а затем – с архонтами. Тогда, конечно, он был известен просто как Буле́ – Совет; своё особое название, «Совет Ареопага», заимствованное от места заседаний, он получил лишь после того, как Солон создал второй совет, от которого его нужно было отличать.
Это, кажется, объясняет, почему он не упоминается в законах Драконта, и его молчание служило одним из аргументов в пользу мнения, что ареопаг не существовал в его время и был впервые учреждён Солоном. [124] Мы знаем ареопаг главным образом как судебный орган, потому что он действовал в этом качестве на протяжении всей афинской истории, а также потому что [p. 74] ораторы чаще всего упоминают его решения по судебным делам. Однако изначально его функции носили самый широкий совещательный характер, включая как руководящие, так и судебные полномочия. И хотя постепенное усиление демократии в Афинах, как будет объяснено далее, не только ограничило его власть, но и ещё больше снизило его значение в относительном плане, расширив прямое участие народа в собраниях и судах, а также роль Совета пятисот, который стал постоянным вспомогательным органом народного собрания, – тем не менее, даже вплоть до времени Перикла, ареопаг оставался важнейшим государственным институтом. И после того, как политические реформы этого великого мужа оттеснили его на второй план, мы всё ещё видим, как в отдельных случаях он выступает вперёд, чтобы вновь заявить о своих древних полномочиях и на время принять ту неограниченную власть, которой он безраздельно пользовался в древности. Приверженность афинян своим старинным институтам обеспечивала ареопагу постоянное и сильное влияние на их умы, и это чувство скорее усиливалось, чем ослабевало, когда он перестал быть объектом народной подозрительности – когда его уже нельзя было использовать как орудие олигархических притязаний.
Из девяти архонтов, число которых оставалось неизменным с 638 г. до н. э. и до конца свободной демократии, трое носили особые титулы: архонт-эпоним, по имени которого назывался год и которого именовали просто «Архонт»; архонт-басилевс (царь), или чаще просто «басилевс»; и полемарх. Остальные шесть носили общее название «фесмофеты». Первые трое обладали исключительной судебной компетенцией в определенных специальных вопросах; фесмофеты же в этом отношении были равны, действуя иногда коллегиально, а иногда индивидуально.
Архонт-эпоним разрешал все споры, касающиеся семейных, родовых и фратрических отношений; он был законным защитником сирот и вдов [125]. Архонт-басилевс, или царь-архонт, занимался жалобами на преступления против религиозных чувств и на убийства. Полемарх, если говорить о временах до Клисфена, был предводителем военных [стр. 75] сил и судьёй в спорах между гражданами и негражданами. Кроме того, каждому из этих трёх архонтов были поручены определённые религиозные праздники, которые он должен был курировать и проводить.
Шесть фесмофетов, судя по всему, выступали судьями в спорах и жалобах, в основном, между гражданами, за исключением особых вопросов, отнесённых к ведению первых двух архонтов. В точном смысле слова «фесмофеты», все девять архонтов могли так называться [126], хотя первые трое имели особые обозначения. Слово «фесмы», аналогичное «фемистам» [127] у Гомера, включает в себя как общие законы, так и частные приговоры – эти два понятия ещё не различались, и общий закон воспринимался только в применении к конкретному случаю. Драконт был первым фесмофетом, которого обязали записать свои фесм в письменной форме, придав им тем самым характер более или менее общего характера.
В более поздние и лучше известные времена афинского права мы видим, что эти архонты в значительной степени лишились своих судебных полномочий [стр. 76] и были ограничены задачей сначала выслушивать стороны и собирать доказательства, а затем передавать дело на рассмотрение в соответствующий дикастерий, над которым они председательствовали. Первоначально не было разделения властей: архонты и судили, и управляли, разделяя между собой привилегии, некогда сосредоточенные в руках царя, и, вероятно, отчитывались по окончании своего годичного срока перед ареопагом. Вероятно также, что функции этого совета и функции пританов навкраров носили такой же двойственный и нечёткий характер.
Все эти должностные лица принадлежали к эвпатридам и, несомненно, действовали в узких интересах своего сословия. Более того, у архонтов был широкий простор для фаворитизма – как в виде попустительства, так и в виде предвзятости. То, что ситуация была именно такой и недовольство начало становиться серьёзным, можно заключить из обязанности, возложенной на фесмофета Драконта в 624 г. до н. э., – записать фесм, или постановления, чтобы они могли быть «обнародованы» и известны заранее [128]. Он не вмешивался в политическое устройство, и Аристотель находит в его постановлениях мало достойного внимания, кроме крайней суровости [129] назначаемых наказаний: за мелкие кражи или даже доказанное праздное существование полагались смерть или лишение гражданских прав.
Однако мы не должны понимать это замечание как свидетельство особой жестокости характера Драконта, который не обладал такими широкими полномочиями, как Солон впоследствии, и вряд ли мог навязать обществу суровые законы собственного изобретения. Будучи, конечно, эвпатридом, он изложил в письменной форме те постановления, которые эвпатридские архонты и раньше применяли без записи в конкретных случаях, доходивших до них. А дух уголовного законодательства за последующие два столетия стал настолько мягче, что эти старые постановления казались Аристотелю невыносимо суровыми. Вероятно, ни Драконт, ни локриец Залевк, живший несколько раньше, не были более жестокими, чем того требовали нравы эпохи.
Действительно, немногие сохранившиеся фрагменты таблиц Драконта, далёкие от слепой жестокости, впервые вводят в афинское право смягчающие обстоятельства в отношении убийства [130], основанные на различии сопутствующих факторов. Говорят, что он учредил судей-эфетов – пятьдесят одного старейшину, принадлежавшего к уважаемому роду или занимавшего высокое положение, которые проводили суды по делам об убийствах в трёх разных местах, в зависимости от характера рассматриваемых дел.
Если обвиняемый, признавая факт, отрицал умысел и ссылался на случайность, дело разбиралось в месте, называемом Палладием. При признании вины в неумышленном убийстве он приговаривался к временному изгнанию, если не мог примириться с родственниками убитого, но его имущество оставалось неприкосновенным. Если же, признавая факт, он приводил веские оправдательные доводы, такие как самооборона или прелюбодеяние убитого с его женой, суд происходил на земле, посвящённой Аполлону и Артемиде, – в Дельфинии.
Особое место под названием Фреаттида, близ морского берега, предназначалось для суда над лицом, которое, уже находясь в изгнании за неумышленное убийство, обвинялось в новом убийстве, совершённом, конечно, за пределами территории. Поскольку оно считалось осквернённым предыдущим приговором, ему не разрешалось ступать на землю, и суд проходил на лодке, причаленной к берегу.
В самом пританее заседали четыре филобасилевса (племенных царя), чтобы судить любой неодушевлённый предмет (кусок дерева или камня и т. д.), ставший причиной смерти без доказанного участия человека. Если факт подтверждался, дерево или камень формально изгонялись за пределы границы [131]. Все эти различия, конечно, предполагали предварительное расследование дела (анакрисис) царём-архонтом, чтобы определить суть вопроса и место заседания эфетов.
Настолько тесно способ судопроизводства по делам об убийствах был связан [p. 79] с религиозными чувствами афинян, что эти древние установления так и не были формально отменены на протяжении всей исторической эпохи и были высечены на колонне, которую читали современники Демосфена. [132] Ареопаг продолжал функционировать как судебный орган, а об эфетах говорили, будто они действовали даже во времена Демосфена; хотя их полномочия были молчаливо узурпированы или ограничены, а их авторитет подорван [133] более демократичными дикастериями, созданными позднее. Именно благодаря этому они стали известны нам, в то время как остальные установления Драконта канули в Лету: но многое остаётся неясным в отношении них, особенно что касается связи между эфетами и ареопагитами. Действительно, даже историки Афин знали об этом так мало, что большинство из них полагало, будто совет ареопага впервые был учреждён Солоном: и даже Аристотель, хотя и противоречит этому мнению, выражается не слишком уверенно. [134] То, что судьи заседали на ареопаге для разбирательства дел об убийствах ещё до Драконта, подразумевается в его установлениях относительно эфетов, поскольку он не вводит новых правил для рассмотрения прямых случаев умышленного убийства, которые, согласно всем источникам, находились в ведении ареопага: но были ли эфеты и ареопагиты одними и теми же лицами – полностью или частично, – наши сведения слишком скудны, чтобы это выяснить. До Драконта не существовало никакого суда для разбирательства дел об убийствах, кроме заседающего на ареопаге совета, и мы можем предположить, что с этим местом было связано нечто – предания, [p. 80] обряды или религиозные чувства, – что заставляло судей, заседавших там, осуждать каждого, кто был признан виновным в убийстве, и запрещало им учитывать смягчающие или оправдывающие обстоятельства. [135] Драконт назначил эфетов заседать в разных местах; и эти места были так чётко обозначены и так неукоснительно соблюдались, что мы можем увидеть, насколько своеобразно, по афинским представлениям, те особые случаи убийства при определённых обстоятельствах, которые он отнёс к каждому из них, соответствовали новым священным местам, [136] каждое из которых имело свой особый обряд и процедуру, установленные самими богами. То, что религиозные чувства греков были самым тесным образом связаны с определёнными местами, уже неоднократно отмечалось; и Драконт действовал в соответствии с ними, вводя смягчения в безоговорочное осуждение каждого, кто был признан виновным в убийстве, что было неизбежно, пока ареопаг оставался единственным местом суда. Человек, который либо признавался, либо был уличен в пролитии крови другого, не мог быть оправдан или приговорён к меньшему наказанию (чем смерть или вечное изгнание с конфискацией имущества) судьями на холме Ареса, какие бы оправдания он ни приводил: но судьи в Палладиуме и Дельфиниуме могли выслушать его и даже принять его доводы, не навлекая на себя пятна нечестия. Драконт не вмешивался напрямую и даже не упоминал о судьях, заседающих в ареопаге.
Таким образом, в отношении убийств постановления Драконта частично реформировали узость, а частично смягчали суровость старой процедуры; и только они дошли до нас, сохранившись неизменными благодаря религиозному почтению афинян к древности в этом особом вопросе. Остальные его постановления, как говорят, были отменены Солоном из-за их невыносимой суровости. Без сомнения, так они воспринимались афинянами более позднего времени, которые стали [p. 81] оценивать преступления по иной шкале; да и самим Солоном, которому предстояло утишить гнев страдающего народа, уже поднявшего мятеж.
То, что при этой эвпатридской олигархии и суровом законодательстве народ Аттики был достаточно несчастен, мы вскоре увидим, когда я расскажу о действиях Солона: но эпоха демократии ещё не началась, и первое потрясение правительство испытало от рук честолюбивого эвпатрида, стремившегося к тирании. Такова была фаза, как отмечалось в предыдущей главе, через которую в течение рассматриваемого сейчас века прошла значительная часть греческих государств.
Килон, афинский патриций, который к знатному происхождению добавил личную славу победы на Олимпийских играх в двойном беге, задумал захватить акрополь и стать тираном. Произошло ли какое-то особое событие на родине, подтолкнувшее его к этому замыслу, мы не знаем: но он получил и поддержку, и ценную помощь от своего тестя Феагена Мегарского, который, пользуясь популярностью у народа, уже сверг мегарскую олигархию и стал тираном своего родного города. Однако перед столь рискованной попыткой Килон обратился к Дельфийскому оракулу и получил от бога совет воспользоваться для захвата акрополя «величайшим праздником Зевса». Такие слова, в их естественном толковании, принятом каждым греком, означали Олимпийские игры в Пелопоннесе – и для Килона, к тому же самого олимпийского победителя, это толкование казалось особенно уместным. Но Фукидид, не безразличный к авторитету оракула, напоминает читателям, что не был задан вопрос и не было дано прямого указания, где следует искать предполагаемый «величайший праздник Зевса» – в Аттике или в другом месте – и что общественный праздник Диасии, отмечаемый периодически и торжественно в окрестностях Афин, также назывался «величайшим праздником Зевса Мейлихия». Вероятно, подобные герменевтические сомнения никому не приходили в голову до жалкого провала заговора; меньше всего – самому Килону, который во время следующих Олимпийских игр возглавил отряд, частично предоставленный Феагеном, частично [p. 82] состоявший из его друзей на родине, и внезапно захватил священную скалу Афин. Но попытка вызвала всеобщее возмущение афинского народа, который стекался из сельской местности, чтобы помочь архонтам и пританам навкраров подавить её. Килон и его сообщники были блокированы в акрополе, где вскоре оказались в тяжёлом положении из-за нехватки воды и провизии; и хотя многие афиняне разошлись по домам, осаждающих осталось достаточно, чтобы довести заговорщиков до крайности. После того как сам Килон тайно бежал, а несколько его сообщников умерли от голода, остальные, потеряв всякую надежду на защиту, сели как умоляющие у алтаря. Архонт Мегакл, вернувшись в цитадель, обнаружил этих умоляющих на грани смерти от голода на священной земле и, чтобы предотвратить такое осквернение, уговорил их покинуть место, пообещав сохранить им жизнь. Однако, как только их вывели на обычную землю, обещание было нарушено, и они были казнены: некоторые же, видя уготованную им участь, попытались укрыться у алтаря почтенных богинь, или эвменид, близ ареопага, но всё равно получили смертельные ранения, несмотря на неприкосновенность этого убежища. [137]
Хотя заговор был таким образом подавлен, а правительство удержало власть, эти прискорбные события повлекли за собой длинную цепь бедствий – глубокое религиозное раскаяние, смешанное с обострённой политической враждой. Осталось, если не значительное килоновское движение, то по крайней мере множество людей, возмущённых тем, как были казнены сторонники Килона, и ставших вследствие этого злейшими врагами архонта Мегакла и могущественного рода Алкмеонидов, к которому он принадлежал. Не только сам Мегакл и его ближайшие соратники были объявлены проклятыми, но эта скверна, как считалось, перешла и на его потомков, и в дальнейшем мы увидим, что рана вновь открывалась не только во втором и третьем поколении, но даже спустя два века после самого события. [138]
Учитывая, насколько глубоким оказалось впечатление от этих событий, [стр. 83] даже по прошествии долгого времени, можно легко поверить, что сразу после случившегося они полностью отравили спокойствие государства. Алкмеониды и их сторонники долго сопротивлялись своим противникам, отвергая любой публичный суд, – и раздоры продолжались без надежды на разрешение, пока Солон, уже тогда пользовавшийся высоким авторитетом за мудрость, патриотизм и храбрость, не убедил их подчиниться судебному разбирательству – настолько отдалённому от самих событий, что многие участники уже умерли.
Их судили перед особым судом из трёхсот эвпатридов, а обвинителем выступил Мирон из дема Флии. Защищаясь от обвинения в кощунстве против богов и нарушении права убежища, они утверждали, что килоновы suppliants, убеждённые покинуть священную землю, привязали верёвку к статуе богини и держались за неё для защиты по пути. Но когда они приблизились к алтарю эвменид, верёвка неожиданно порвалась – и это роковое событие, как доказывали обвиняемые, свидетельствовало о том, что сама богиня лишила их своей защиты и предала их судьбе. [139]
Однако этот довод, примечательный как иллюстрация духа того времени, не был принят в качестве оправдания: их признали виновными, и те, кто ещё оставался в живых, отправились в изгнание, а уже умершие были выкопаны из могил и выброшены за пределы Аттики. Но даже их изгнание, пусть и временное, не сочли достаточным искуплением за нечестие, в котором их обвинили. Алкмеониды, один из самых влиятельных родов Аттики, ещё долго считались запятнанными, [140] и во времена [стр. 84] общественных бедствий их могли обвинить в том, что именно их святотатство навлекло гнев богов на сограждан. [141]
Изгнание виновных, однако, не смогло полностью восстановить спокойствие. Не только свирепствовали болезни, но и религиозные чувства афинян оставались в угнетённом состоянии: они пребывали в скорби и унынии, видели призраков, слышали сверхъестественные угрозы и чувствовали, что проклятие богов по-прежнему тяготеет над ними. [142] В особенности, по-видимому, были возбуждены и охвачены безумием женщины – чьи религиозные порывы, как признавали древние законодатели, требовали особого контроля.
Жертвоприношения в Афинах не помогали остановить эпидемию, а местные прорицатели, хотя и понимали, что необходимы особые очистительные обряды, не могли определить, какие именно церемонии смогут умилостивить божественный гнев. Дельфийский оракул велел им призвать высшее духовное руководство извне, и так в Афины прибыл знаменитый критский пророк и мудрец Эпименид.
Век между 620 и 500 гг. до н. э. кажется особенно примечательным из-за первого распространения и мощного влияния отдельных религиозных братств, мистических обрядов и искупительных церемоний, ни одна из которых, как я уже отмечал в предыдущей главе, не находит отражения в гомеровском эпосе. К этому периоду относятся Фалет, Аристей, Абарис, Пифагор, Ономакрит и первые достоверные свидетельства деятельности орфической секты. [143]
Среди людей этого рода одним из самых знаменитых был Эпименид – уроженец Феста или Кносса на Крите. [144] Древняя легендарная связь между Афинами и Критом, проявляющаяся в сказаниях о Тесее и Миносе, здесь снова обнаруживается в том, что афиняне обратились к этому острову, чтобы удовлетворить свои духовные нужды. Эпименид, по-видимому, был связан [стр. 85] с культом критского Зевса, благосклонностью которого он пользовался настолько, что получил прозвание нового Курета [145] – ведь Куреты были древними служителями и устроителями этого культа.











