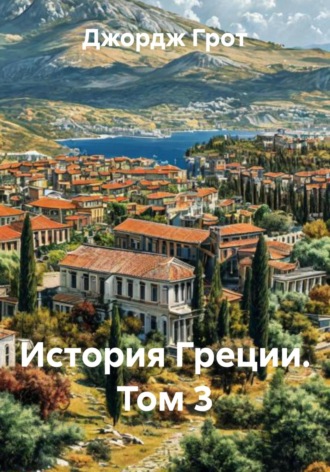
Полная версия
История Греции. Том 3
В случае с Пелопоннесом нам удалось разглядеть нечто вроде порядка реальных событий в указанный период – Спарта делает большие успехи, в то время как Аргос приходит в упадок. В случае с Афинами, к сожалению, наши материалы менее информативны. Число исторических фактов, предшествующих законодательству Солона, очень невелико; промежуток между 776 г. до н. э. и 624 г. до н. э., эпохой законодательства Драконта незадолго до попытки узурпации Килона, дает нам лишь список архонтов, лишенных всяких событий.
В знак уважения к героизму Кодра, пожертвовавшего своей жизнью ради безопасности страны, нам сообщают, что после него никому не разрешалось носить титул царя: [71] его сын Медонт и двенадцать преемников – Акаст, Архипп, Терсипп, Форбант, Мегакл, Диогнет, Ферекл, Арифрон, Теспий, Агаместор, Эсхил и Алкмеон – все были пожизненными архонтами. На втором году правления Алкмеона (752 г. до н. э.) срок архонтства был ограничен десятью годами: и семь таких десятилетних архонтов перечислены – Хароп, Эсимид, Клидик, Гиппомен, Леократ, Апсандр, Эриксий. При Креоне, сменившем Эриксия, архонтство стало не только ежегодным, но и коллегиальным, распределяясь между девятью лицами; и эти девять архонтов, ежегодно сменяемые, сохраняются на протяжении всего исторического периода, прерываясь лишь немногими периодами политических смут и внешнего давления. Вплоть до Клидика и Гиппомена (714 г. до н. э.) звание архонта принадлежало исключительно Медонтидам, потомкам Медонта и Кодра: [72] в тот период оно стало доступно всем эвпатридам, то есть знатному сословию государства.
Такова последовательность имен, по которым мы спускаемся с уровня легенд к уровню истории. Все наши исторические знания об Афинах ограничиваются периодом ежегодных архонтов; этот список эпонимных архонтов, начиная с Креона, полностью достоверен. [73] До 683 г. до н. э. аттические антикварии предоставили нам ряд имен, которые мы должны принимать как есть, не имея возможности ни подтвердить их все, ни отделить ложное от истинного. Нет оснований сомневаться в общем факте, что Афины, как и многие другие общины Греции, в древнейшие времена управлялись наследственной линией царей и что они перешли от этой формы правления к республике, сначала олигархической, затем демократической.
Мы не в состоянии определить гражданскую классификацию и политическое устройство Аттики даже в период архонтства Креона (683 г. до н. э.), когда начинается достоверная афинская хронология, – тем более не можем претендовать на знание предшествующих веков. Великие политические перемены были введены сначала Солоном (около 594 г. до н. э.), затем Клисфеном (509 г. до н. э.), а позже Аристидом, Периклом и Эфиальтом между Персидской и Пелопоннесской войнами: так что старый дополоновский – да даже подлинно солоновский – строй постепенно устаревал и забывался. Но вся информация, которой мы располагаем об этом древнем устройстве, происходит от авторов, живших после всех или большинства этих великих перемен, – и которые, не находя записей или чего-либо лучше текущих легенд, объясняли прошлое, как могли, более или менее остроумными догадками, обычно привязанными к господствующим легендарным именам. Иногда они могли основывать свои выводы на религиозных обычаях, периодических церемониях или общих жертвоприношениях, сохранившихся в их время; и это, несомненно, были лучшие свидетельства об афинской древности, поскольку такие практики часто оставались неизменными при всех политических переменах. Только таким образом мы приходим к частичному знанию дополоновского состояния Аттики, хотя в целом оно остается темным и непонятным даже после многих разъяснений современных комментаторов.
Филохор, писавший в III веке до нашей эры, утверждал, что Кекроп первоначально разделил Аттику на двенадцать округов: Кекропия, Тетраполис, Эпакрия, Деделея, Элевсин, Афидна, Торик, Браврон, Кифер, Сфетт, Кефисия и Фалер – и что эти двенадцать округов были объединены в одно политическое общество Тесеем. [74] Это деление не включает Мегариду, которая, согласно другим источникам, была объединена с Аттикой и входила в раздел, произведенный царем Пандионом между его четырьмя сыновьями: Нисом, Эгеем, Паллантом и Ликом – история, восходящая по меньшей мере к Софоклу. [75] В других источниках встречается четверное деление фил, которые, как утверждается, были четырехчленными, начиная с Кекропа, и в его время назывались Кекропида, Автохтон, Актая и Паралия. При царе Кранае, как сообщается, эти филы получили имена Кранаида, Аттида, Месогея и Диакрия, [76] – при Эрихтонии они назывались Диада, Атенаида, Посейдониада и Гефестиада; наконец, вскоре после Эрехтея они были переименованы по именам четырех сыновей Иона (сына Креусы, дочери Эрехтея, от Аполлона): Гелеонты, Гоплиты, Эгикореи и Аргадеи. Четыре аттические, или ионийские, филы под этими последними названиями [с. 51] сохраняли свою классификацию граждан вплоть до реформы Клисфена в 509 г. до н. э., когда были введены десять фил, существовавшие вплоть до периода македонского господства. Утверждается, и не без этимологического правдоподобия, что названия этих четырех фил изначально должны были отсылать к занятиям тех, кто их носил: Гоплиты были воинами, Эгикореи – козопасами, Аргадеи – ремесленниками, а Гелеонты (Телеонты, или Гедеонты) – земледельцами. На этом основании некоторые авторы приписывали древним жителям Аттики [77] действительное изначальное разделение на наследственные профессии, или касты, подобное существовавшему в Индии и Египте. Даже если допустить, что такое деление на касты могло первоначально существовать, оно должно было устареть задолго до времени Солона. Однако нет достаточных оснований полагать, что оно вообще когда-либо существовало. Названия фил могли быть заимствованы из определенных профессий, но из этого не обязательно следует, что реальность соответствовала этому происхождению или что каждый, принадлежавший к какой-либо филе, был представителем профессии, от которой произошло название. На основании одной лишь этимологии, сколь бы ясной она ни была, нельзя с уверенностью утверждать историческую реальность классификации по профессиям. И это возражение (которое было бы весомым даже при ясной этимологии) становится неопровержимым, если добавить, что сама этимология небесспорна; [78] что сами имена записывались с вариациями, которые невозможно согласовать; и что четыре профессии, названные Страбоном, исключают козопасов и [с. 52] включают жрецов, тогда как у Плутарха, наоборот, жрецы опущены, а козопасы упомянуты. [79]
Достоверно лишь то, что это были четыре древние ионийские филы – аналогичные дорийским Гиллеям, Памфилам и Диманам – которые существовали не только в Афинах, но и в ряде ионийских городов, происходивших от Афин. Гелеонты упоминаются в сохранившихся надписях из Теоса в Ионии, а все четыре филы названы в надписях из Кизика в Пропонтиде, основанного ионийским Милетом. [80] Таким образом, четыре филы и четыре названия (с учетом некоторых вариаций в прочтении) исторически подтверждены; однако ни время их появления, ни их изначальное значение не являются достоверными фактами, и нельзя доверять различным интерпретациям легенд об Ионе, Эрехтее и Кекропе, предлагаемым современными комментаторами.
Эти четыре филы можно рассматривать либо как религиозные и социальные объединения, в которых каждая включала три фратрии и девяносто родов, либо как политические объединения, в которых каждая состояла из трех триттий и двенадцати навкрарий. Каждая фратрия содержала тридцать родов, каждая триттия – четыре навкрарии; таким образом, общее число составляло триста шестьдесят родов и сорок восемь навкрарий. Более того, каждый род, как утверждается, включал тридцать глав семейств, так что общее их число составляло десять тысяч восемьсот.
Сравнивая эти два деления, можно заметить, что они различны по своей природе и движутся в противоположных направлениях. Триттия и навкрария являются по существу дробными подразделениями филы и опираются на филу как на высшее единство; навкрария – это территориальный округ, состоящий из навкраров, или главных домохозяев (как указывает этимология), которые взимают в своем округе причитающуюся ему долю общественных взносов и контролируют их расходование, обеспечивают военную силу, возложенную на округ, – а именно двух всадников и один корабль для каждой навкрарии, – а также поставляют главных окружных должностных лиц, пританов навкрарий. [81] Вероятно, можно предположить, что определенное количество пехотинцев, варьирующееся в зависимости от потребностей, сопровождало этих всадников, но их квота не указана, так как, возможно, считалось излишним точно ограничивать обязательства всех, кроме более состоятельных людей, служивших в коннице, – в период, когда олигархическое господство было всесильным, а основная масса населения находилась в состоянии сравнительного подчинения. Таким образом, сорок восемь навкрарий представляют собой систематическое подразделение четырех фил, охватывающее в целом всю территорию, население, взносы и военную силу Аттики – подразделение, созданное исключительно для целей, связанных со всем государством.
Вот перевод текста на русский с сохранением всех указанных цифр в квадратных скобках:
Но фратрии и роды представляют собой совершенно иную систему распределения. Они, по-видимому, являются объединением мелких первобытных единиц в более крупные; они независимы от племени и не предполагают его существования; они возникают отдельно и спонтанно, без предварительной унификации и без связи с общей политической целью [p. 54]; законодатель находит их уже существующими и адаптирует или изменяет их для соответствия какому-либо национальному плану. Мы должны различать сам факт классификации и последовательное подчинение в иерархии – семей роду, родов фратрии, а фратрий племени, – от точной числовой симметрии, которая, как мы читаем, присуща этой системе: тридцать семей в роде, тридцать родов во фратрии, три фратрии в каждом племени. Если бы такое точное равенство чисел когда-либо было достигнуто благодаря законодательному принуждению [82], воздействующему на уже существующие естественные элементы, эти пропорции не могли бы сохраняться долго. Но мы вправе усомниться, существовало ли это вообще: это скорее похоже на фантазию автора, который представлял себе изначальное систематическое создание в доисторические времена, умножая количество дней в месяце на количество месяцев в году. Предположение, что каждая фратрия включала равное число родов, а каждый род – равное число семей, едва ли допустимо без более веских доказательств, чем те, что у нас есть. Но, оставляя в стороне эту сомнительную точность числовой шкалы, сами фратрии и роды были реальными, древними и устойчивыми объединениями среди афинского народа, понимание которых чрезвычайно важно. [83] Основой всего был дом, очаг или семья – из большего или меньшего их числа [p. 55] состоял род, или генос. Таким образом, этот род был кланом, септом или расширенным, отчасти искусственным братством, связанным:
1. Общими религиозными обрядами и исключительным правом священства в честь одного и того же бога, считавшегося первопредком и характеризовавшегося особым прозвищем.
2. Общим местом погребения.
3. Взаимными правами наследования имущества.
4. Взаимными обязательствами помощи, защиты и возмещения ущерба.
5. Взаимным правом и обязанностью вступать в брак в определённых случаях, особенно при наличии осиротевшей дочери или наследницы.
6. Владением, по крайней мере в некоторых случаях, общей собственностью, своим архонтом и казначеем.
Таковы были права и обязанности, характеризующие родовой союз: [84] фратриальный союз, объединявший несколько родов, был менее тесным, но всё же включал некоторые взаимные права и обязанности аналогичного характера, особенно общность определённых священных обрядов и взаимные права преследования в случае убийства фратора. Каждая фратрия считалась принадлежащей к одному из четырёх племён, и все фратрии одного племени участвовали в периодических совместных священных обрядах под председательством магистрата, называемого филобасилевсом, или царём племени, избиравшегося из эвпатридов; так, Зевс Гелеон был покровителем племени гелеонтов. Наконец, все четыре племени были связаны общим культом Аполлона Патрооса, их божественного отца и покровителя; ибо Аполлон был отцом Иона, а эпонимы всех четырёх племён считались его сыновьями.
Таков был изначальный религиозный и социальный союз населения Аттики в его постепенно восходящей иерархии – в отличие от политического союза, вероятно, более позднего происхождения, представленного сначала триттиями и наукрариями, а впоследствии десятью клейсфеновскими филами, подразделёнными на триттии и демы. Религиозная и родовая связь является более ранней из двух: но политическая связь, хотя и возникшая позже, [p. 56] приобретала, как мы увидим, всё большее влияние на протяжении большей части этой истории. В первой личные отношения являются сущностной и преобладающей характеристикой, [85] – а местные связи второстепенны: во второй собственность и место жительства становятся главными критериями, а личный элемент учитывается лишь в связи с ними. Все эти фратриальные и родовые объединения, как крупные, так и мелкие, основывались на одних и тех же принципах и тенденциях греческого мышления, [86] – слиянии идеи поклонения с идеей происхождения или общности в определённых религиозных обрядах с общностью крови, реальной или предполагаемой. Бог или герой, которому собравшиеся члены приносили жертвы, считался их первопредком, от которого они вели своё происхождение; часто через длинный список промежуточных имён, как в случае с Милетским Гекатеем, на которого мы так часто ссылались. [87] Каждая семья [p. 57] имела свои собственные священные обряды и поминальные церемонии в честь предков, совершаемые главой дома, на которые допускались только члены семьи: вымирание семьи, влекущее за собой прекращение этих религиозных обрядов, рассматривалось греками как несчастье не только из-за потери граждан, её составлявших, но и потому, что семейные боги и души умерших граждан лишались почестей, [88] что могло навлечь на страну их гнев. Более крупные объединения, называемые родом, фратрией, племенем, формировались по тому же принципу – семья рассматривалась как религиозное братство, почитающее общего бога или героя с особым прозвищем и признающее его своим общим предком; а праздники Теоении и Апатурии [89] – первый аттический, второй общий для всех ионийцев, – ежегодно собирали членов этих фратрий и родов для совместного богослужения, празднеств и поддержания особых уз, укрепляя тем самым более широкие связи, не стирая при этом более узкие.
Таковы были проявления греческой общительности, как мы видим их в древнем устройстве не только Аттики, но и других греческих государств. Для Аристотеля и Дикеарха было интересно проследить, как всё политическое общество восходит к определённым предполагаемым элементарным единицам, и показать, какими мотивами и средствами первоначальные семьи, каждая со своим отдельным закромом и очагом, [90] объединялись в более крупные образования. Но историк должен принимать как данность самое раннее состояние, о котором ему сообщают источники; и в данном случае родовые и фратриальные союзы – это реалии, истоки которых мы не можем даже пытаться постичь.
Поллукс (вероятно, из утраченного труда Аристотеля о Государственном устройстве Греции) сообщает нам вполне определённо, что члены одного и того же рода в Афинах обычно не были связаны кровным родством, – и даже без прямых свидетельств мы могли бы прийти к такому выводу. Насколько род в неизвестную эпоху своего возникновения основывался на действительном родстве, мы не можем определить ни в отношении афинских, ни римских родов, которые были аналогичны во всех основных чертах. Родство (gentilism) – это особая связь, отличная от семейных уз, но предполагающая их существование и расширяющая их посредством искусственной аналогии, отчасти основанной на религиозной вере, отчасти на формальном договоре, так что в неё включались и чужие по крови. Все члены одного рода или даже одной фратрии считали себя происходящими не от одного деда или прадеда, а от одного божественного или героического предка: все современные члены фратрии Гекатея имели общего бога-предка в шестнадцатом колене; и это основополагающее убеждение, так легко укоренившееся в греческом сознании, было принято и преобразовано формальным соглашением в родовой и фратриальный принцип единства. Именно потому, что такое смешение, не признаваемое христианством, противоречит современному образу мысли, и потому, что нам трудно понять, как подобная юридическая и религиозная фикция могла глубоко проникнуть в греческие представления, фратрии и роды кажутся нам загадочными. Однако они вполне согласуются со всеми легендарными генеалогиями, изложенными в предыдущем томе.
Несомненно, Нибур в своём ценном исследовании древнеримских родов прав, предполагая, что они не были реальными семьями, происходящими от общего исторического предка. Но не менее верно и то (хотя он, кажется, думает иначе), что идея рода включала веру в общего первопредка, божественного или героического, – генеалогию, которую мы вправе назвать вымышленной, но которая была освящена и признавалась среди самих членов рода и служила важной связующей их узой. [91] И хотя аналитический ум, подобный Аристотелю, мог различать род и семью, считая первый порождением особого договора, это не является верным критерием для оценки обычных представлений ранних греков. Более того, не факт, что сам Аристотель, сын врача Никомаха, принадлежавшего к роду Асклепиадов, [92] согласился бы отрицать происхождение всех этих религиозных семей от общего предка без каких-либо исключений.
Естественные семьи, конечно, менялись от поколения к поколению: одни расширялись, другие уменьшались или исчезали; но род оставался неизменным, за исключением случаев рождения, вымирания или разделения входящих в него семей. Таким образом, отношения между семьями и родом постоянно колебались, и родовая генеалогия, несомненно соответствовавшая первоначальному состоянию рода, со временем частично устаревала и становилась непригодной. Мы редко слышим об этой генеалогии, потому что она упоминается лишь в особо значимых и почитаемых случаях. Но и менее знатные роды имели свои общие обряды, общего сверхъестественного предка и генеалогию, как и более прославленные: схема и идеальная основа были одинаковы для всех.
Аналогии, заимствованные у самых разных народов и из разных частей света, показывают, насколько легко эти расширенные и искусственные семейные союзы сочетаются с представлениями раннего общества. Горные кланы Шотландии, ирландские септы, [93] древние юридически оформленные семьи во Фрисландии и Дитмаршене, фис или фара у албанцев – всё это примеры подобной практики. [94] Усыновление пленных у североамериканских индейцев, а также повсеместное распространение и значимость обряда усыновления в греко-римском мире демонстрируют нам торжественный ритуал, который при определённых обстоятельствах порождал связь и привязанность, подобные кровным узам.
Фратрии и роды в Афинах, курии и роды в Риме были того же характера, но они особенно видоизменялись религиозным воображением древнего мира, всегда возводившего прошлое к богам и героям. Таким образом, религия давала и общую генеалогию как их основу, и привилегированное участие в особых священных обрядах как средство увековечивания памяти. Роды как в Афинах, так и в других частях Греции носили патронимические названия – отпечаток их предполагаемого общего происхождения: мы встречаем Асклепиадов во многих областях Греции, Алевадов в Фессалии, Медилидов, Псалихидов, Блепсиадов, Евксенидов на Эгине, Бранхидов в Милете, Небридов на Косе, Иамидов и Клитиадов в Олимпии, Акторидов в Аргосе, Кинирадов на Кипре, Пенфилидов в Митилене, [95] Талфибиадов в Спарте – не меньше, чем Кодридов, Эвмолпидов, Фитилидов, Ликомедов, Бутадов, Эвнеидов, Гесихидов, Бритиадов и др. в Аттике. [96] Каждому из них соответствовал более или менее известный мифический предок, считавшийся прародителем и эпонимом рода – Кодр, Эвмолп, Бут, Фитал, Гесих и т. д.
Реформа Клисфена в 509 г. до н. э. упразднила старые филы для гражданских целей и создала десять новых фил, оставив фратрии и роды неизменными, но введя территориальное деление по демам (округам) как основу новых политических фил. Определённое число демов входило в каждую из десяти клисфеновских фил (демы в одной филе обычно не были смежными, так что фила не совпадала с чёткой территорией), и дем, в котором был зарегистрирован человек, оставался демом его потомков. Однако роды как таковые не были связаны с этими новыми филами, и члены одного рода могли принадлежать к разным демам. [97] Однако стоит отметить, что в старом устройстве Аттики деление на роды до некоторой степени совпадало с делением на демы: нередко члены одного рода (геннеты) жили в одном округе, так что название рода и дема совпадали. Более того, Клисфен, по-видимому, признал некоторое число новых демов, дав им названия, производные от важных родов, проживавших поблизости. Этим объясняется большое количество клисфеновских демов с патронимическими названиями. [98]
[стр. 64] Между римским и греческим родом существует одно важное различие, проистекающее из разницы в практике именования. Римский патриций обычно носил три имени – родовое имя, за которым следовало имя его семьи, а перед ним – личное имя, уникальное для него в рамках этой семьи. Однако в Афинах, по крайней мере после реформ Клисфена, родовое имя не использовалось: человека обозначали его личным именем, за которым следовало имя отца и название дема, к которому он принадлежал, – например, «Эсхин, сын Атромета, из дема Котокиды». Такое различие в системе именования делало родовую связь более очевидной для римлян, чем для жителей греческих городов.
До введения Солоном имущественного деления аттического населения фратрии и роды, а также триттии и навкрарии были единственными признанными объединениями среди них и единственной основой юридических прав и обязанностей помимо естественной семьи. Род представлял собой тесную корпорацию как в отношении собственности, так и в отношении личных связей. До времён Солона никто не имел права завещательного распоряжения: если человек умирал бездетным, его имущество переходило к родичам [99], и даже после Солона они сохраняли это право, если умерший не оставил завещания. Сироту-девушку мог по праву потребовать в жёны любой член рода, при этом предпочтение отдавалось ближайшим агнатам [100]. Если она была бедна, и сородич не желал жениться на ней сам, закон Солона обязывал его обеспечить её приданым, пропорциональным его имущественному статусу, и выдать её замуж за другого. Размер требуемого приданого – значительный даже по меркам Солона и впоследствии удвоенный – свидетельствует о том, что законодатель косвенно стремился поощрять реальные браки [101]. Если человека убивали, его ближайшие родственники, а затем родичи и фраторы имели не только право, но и обязанность возбуждать судебное преследование [102]. Его демоты, то есть [стр. 66] жители того же дема, не обладали аналогичным правом. Всё, что мы знаем о древнейших афинских законах, основано на родовом и фратриальном делении, которое повсеместно рассматривалось как расширение семьи. Примечательно, что это деление совершенно не зависело от имущественного ценза – и богатые, и бедные входили в один и тот же род [103].
Более того, разные роды сильно различались по степени знатности, что в основном проистекало из религиозных обрядов, которые каждый из них наследственно и исключительно отправлял. Некоторые из этих обрядов считались особо священными для всего города и потому приобретали общегосударственное значение. Так, Эвмолпиды и Керики, поставлявшие иерофанта и руководившие Элевсинскими мистериями Деметры, а также Бутады, дававшие жрицу Афины Полиады и жреца Посейдона Эрехтея на акрополе, почитались выше всех прочих родов [104]. Когда в ходе реформ Клисфена название «Бутады» было присвоено дему, священный род принял отличительное имя Этеобутады, то есть «Истинные Бутады» [105].
Нам известно множество названий древних аттических родов, но лишь одна фратрия (Ахниады) сохранила своё имя в истории [106]. Эти фратрии и роды, вероятно, никогда не охватывали всё население страны, и доля тех, кто не входил в них, постепенно увеличивалась как до Клисфена [107], так и после. При его конституции и в последующей истории они оставались религиозными квазисемьями или корпорациями, дававшими права и налагавшими обязанности, которые защищались в обычных дикастериях, но не были напрямую связаны с гражданством или политическими функциями: человек [стр. 68] мог быть гражданином, не будучи записанным ни в один род. Сорок восемь навкрарий утратили своё значение при его устройстве: дем, а не навкрария, стал элементарной политической единицей для военных и финансовых целей, а демарх заменил навкрарха в качестве местного администратора. Однако дем не совпадал с навкрарией, а демарх – с прежним главой навкрарии, хотя они были аналогичны и создавались для схожих целей [108]. Если навкрарий было всего сорок восемь, то демы образовывали более мелкие подразделения, и в более поздние времена их насчитывалось не менее ста семидесяти четырёх [109].











