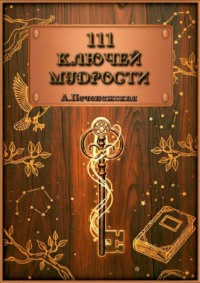Полная версия
Истинный лик Иисуса. Том 2
Он положил ладонь на крошечное тело, и дитя не заплакало. Только пошевелилось, будто узнало отцовское тепло.
– Он не похож на меня, – тихо сказал Захария. – Ни телом, ни голосом. Он другой.
– Но твой, – сказала Елисавета.
И он впервые улыбнулся ей с благодарностью за дар, которого не ждал.
Когда пришло время наречения, соседи ожидали, что младенца назовут в честь отца, ибо таков был обычай, но Елисавета уверенно сказала: «Иоанн».
Её не поняли. Переглянулись. «Нет никого в роде твоём с таким именем», – возразили некоторые. Тогда они обратились к Захарии. Он взял дощечку, долго держал её в руках, разглядывая и о чем-то думая. Пальцы его сначала задрожали, когда он начал медленно писать, а затем твёрдо вывел: «Имя ему – Иоанн».
Слова эти будто открыли что-то в нём, и Захария глубоко вздохнул впервые за долгие месяцы. И в этой тишине стало ясно: ребёнка не просто ждали, а звали. И имя его было не продолжением рода, а откликом на этот зов.
Глава 2. Он пришёл, чтобы мир его услышал
Аин-Карим, затерянный среди холмов Иудеи, был как колодец в пустыне – скромный, но полный жизни. Его дома, сложенные из светлого камня, прижимались к склонам, где оливы гнулись под ветром, а виноградники цеплялись за землю, как молитвы. Воздух пах пылью, тимьяном и дымом из очагов, а по утрам тишину разрывали крики ослов, петухов и пение птиц, что вились над фиговыми деревьями. В этом мире, суровом, но тёплом, и родился Иоанн, сын Захарии и Елисаветы, чьё появление было чудом, как дождь в засуху.
И дом наполнился звуками, которых в нём давно не было: криком, плачем, коротким прерывистым смехом. Елисавета долго не верила, что может держать на руках сына – не во сне, не в мыслях, а здесь, с его младенческим запахом и пытливыми глазами, которые часто останавливались на ней.
Захария тоже не сразу принял изменения в доме. Он держал сына неловко, будто опасался уронить или прижать слишком сильно. Руки его были неуклюжи от непривычки, поскольку никогда раньше не держал младенца. Он много по жизни молчал, но в ту пору всё же говорил – сдержанно, как человек, привыкший быть точным и говорить только по делу. Его речь была краткой, ровной, почти скуповатой, но в каждом слове было то, что не нуждалось в доказательстве: опыт, вера и выдержка.
Он говорил о правилах и порядке в доме, иногда напоминал Елисавете, что молитву лучше произносить вслух, чтобы слышал не только Бог, но и сын. По вечерам читал ему строки из Торы, но не ради воспитания, а потому что так делали его отцы. Иногда читал вслух Псалмы и Пророков, потому что голос Писания, произнесённый вслух, возвращал ему внутреннюю опору и покой.
Они оба были уже в годах, но не истощены жизнью. В доме, где долгие годы жила тишина, теперь дни были наполнены хлопотами. Утром Елисавета грела воду в глиняном кувшине, мыла ребенка, стирала пелёнки, перебирала травы, варила кашу с мёдом, иногда – с сушёными инжиром или яблоком, если оставались запасы. Она пела Иоанну, пока занималась домашними делами, или разговаривала с ним, словно со взрослым – просто, прямо и без сюсюканья.
Захария делал то, что мог. Подмазал щели в стене, вырезал полку, где теперь стояли чашки и масляная лампа, натянул новую верёвку для сушки белья, укрепил шаткий камень у входа, а в тени во дворе соорудил простую скамью, где Елисавета могла кормить сына или отдыхать днём. Регулярно оправлял камни у источника, чтобы вода текла правильно и русло не заросло. В этих мелочах проходила их новая жизнь: просто утро, день и вечер, прожитые втроём.
Иоанн рос, как росток в каменистой почве, медленно, но упорно. В первый год он был хрупким, с тонкими ручками, что тянулись к свету лампы, упрямым лбом и темными глазами, в которых таилось что-то необъяснимое. Елисавета отдавала ему все свободное время. Захария, сидя у очага, рассказывал ему истории о Моисее, пустыне и народе, что ждал избавления, и младенец, ещё не понимая слов, смотрел на отца, будто впитывая их, как земля росы.
Он не был тихим ребёнком: рано начал ползать, потом вставать, и, как только научился ходить, пытался уйти из дому. Его тянуло наружу – к свету, ветру и звукам, которые не имели названия. Он не боялся холода или жара, но часто плакал, когда его заворачивали в одеяло, словно плотная ткань мешала ему чувствовать.
Иоанн был подвижным, неугомонным и не всегда откликался на голос матери. Но если кто-то из родителей начинал молиться, он замирал, будто ловил слухом что-то невидимое. Иногда подолгу смотрел на огонь или на каплю воды, катящуюся по глиняной чаше, словно в этих движениях видел смысл.
Он рано научился стоять на коленях. Его учили этому, но он сам так делал, когда в доме зажигали лампу и звучал Псалом. В нём было что-то неприрученное – не дикость, а первозданность, будто он ещё не забыл того, чего другие давно не помнили.
Иоанн рано начал есть сам – неловко, руками, размазывая по щеке, но упрямо. Любил ломать хлеб и макать его в масло, а потом сидеть на пороге с коркой в руке и долго жевать, глядя в небо. Часто засыпал не в кровати, а где-нибудь у двери или на лавке: где устал, там и замер.
Он быстро выучил, где хранятся зёрна, где стоит кувшин с водой, и сам тянулся брать, пробовать и пересыпать из чашки в чашку. Любил запах сушёных трав, особенно лавра, и однажды, будучи едва выше табурета, высыпал весь из корзины и стал лежать в нём, уткнувшись лицом в листья. Потом чихал, но был счастлив.
Рядом с матерью он был неугомонным, с отцом – сосредоточенным. А в присутствии чужих – настороженным. Никто не учил его этому: он просто знал, кто свой, а кто – нет. Они в семье не говорили о чуде, просто жили. Дом, в котором долго звучала только молитва, теперь слышал пение и детский смех.
К двум годам Иоанн уже бегал во дворе, где фиговое дерево бросало тень, и трогал листья, шершавые, как кожа. Елисавета, следуя за ним, смеялась, её платок сбивался, а сердце билось быстрее, чем в юности. «Иоанн, не беги к камням!» – кричала она, но он, падая и вставая, смотрел на холмы, как будто они звали его. Захария, чьи руки были грубыми от работы в поле, подхватывал сына и сажал на колени, показывая звёзды. «Видишь, сын, – говорил он, – они светят, даже если их не ждут». Иоанн, ещё не умея говорить, указывал пальчиком на небо, и его смех был как ручей, что бежит между камней.
Вскоре он заговорил, и его первые слова были не «мама» или «папа», а «Бог», что удивило Елисавету, но не Захарию. «Он знает, – шептал тот, – знает больше, чем мы». Мальчик спрашивал обо всём: почему ветер воет, как волк, почему оливы гнутся, но не ломаются, почему отец молится, глядя на восток. Захария отвечал, его голос был как тёплый камень: «Бог в ветре, в оливах, в молитве, сын. Он в тебе». Иоанн слушал, и его глаза, тёмные, как ночное небо, блестели…
В один из дней Захария вышел во двор. Воздух уже начал густеть от зноя, и даже тени отступали, съёживаясь у самых стен. Он взялся чинить старую скамью у входа – ту самую, что он смастерил для Елисаветы, когда родился сын. Одна из ножек расшаталась, и скамья опасно кренилась.
Это была работа неспешная, понятная. Работа рук, а не духа. Он принёс свои инструменты – молоток, деревянный клин и моток верёвки из верблюжьей шерсти. Сел на землю и перевернул скамью. Иоанн, который до этого с увлечением гонял по двору ящерицу, тут же оставил своё занятие и подбежал к отцу.
Захария привык работать в тишине. Его движения были выверены, экономны, как слова молитвы. Но Иоанн внёс в этот ритуал хаос. Он трогал всё: холодный металл молотка, шершавую верёвку, гладкий клин. Пытался засунуть пальцы в щель, которую отец собирался чинить.
– Не нужно, – мягко сказал Захария, отодвигая его руку. – Отойди, сын.
Иоанн отошёл на шаг, сел на землю и стал наблюдать. Его взгляд был не просто любопытным, а впивающимся, изучающим. Когда Захария начал осторожно забивать клин в трещину, мальчик подался вперёд, почти касаясь его рук носом.
– Иоанн, – в голосе отца впервые прозвучала тень строгости. Он боялся не за работу, а за эти маленькие, лезущие повсюду пальцы.
Он поднял сына и отнёс его в другой конец двора, под сень гранатового дерева, дал ему гладкий белый камешек. Но не прошло и минуты, как Иоанн снова был рядом, и в руке его был уже не один, а три камня. Он начал аккуратно укладывать их в ту самую щель, мешая отцу.
Захария замер. В груди поднялось знакомое чувство – смесь раздражения и бессилия. Он не умел говорить с детьми, а только с Богом, Законом и собственной душой. А здесь, на выжженной солнцем земле, сидел его сын, который не понимал привычных слов, но понимал что-то другое.
И тогда Захария сделал то, чего не делал никогда. Он отложил молоток, сел на землю рядом с сыном лицом к лицу. Некоторое время они просто молчали, глядя друг на друга. Потом Захария взял из рук Иоанна один из камней, затем второй, лежавший рядом, и медленно, отчётливо ударил одним камнем о другой.
Тук.
Звук был сухим, коротким.
Иоанн замер. Его тёмные глаза расширились.
Захария снова ударил.
Тук.
Потом он протянул камни сыну. Иоанн взял их неуклюже, в обе ладони. Попытался ударить – и промахнулся. Попытался снова.
Тук.
На его лице отразилось сосредоточенное, почти взрослое удовлетворение. Он посмотрел на отца, и в его взгляде была не просто радость, а узнавание и понимание. Он снова ударил камнем о камень, и в этом простом, ритмичном звуке Захария вдруг услышал нечто большее, чем детскую игру: отголосок своей собственной жизни, размеренный стук сердца, повторяющийся ритм псалмов и вечный порядок служения. Он не научил сына чинить скамью, но поделился с ним тишиной и ритмом – и сын его услышал. Захария не вернулся к скамье, а остался сидеть на земле, слушая, как Иоанн разговаривает с миром на языке камней.
К четырём годам Иоанн стал сильнее, его кожа, обожжённая солнцем, была как кора, а волосы, тёмные и спутанные, падали на лоб. Он уже бегал к ручью за домом, который звучал, как псалом, и плескался, смеясь, будто вода была его другом.
Часто помогал Елисавете носить ветки для очага, его ручки были малы, но упрямы, и она, глядя на него, шептала: «Ты – мой свет». Он любил сидеть у ног Захарии, когда тот читал свитки, и спрашивал: «Чего ждут люди?». Захария гладил его голову и говорил: «Мессию, Иоанн. Того, кто принесёт правду». Мальчик молчал, но его взгляд, острый, как нож, смотрел вдаль, на холмы, где тени ложились, как пророчества.
Однажды Елисавету разбудила не привычка, а тишина. Та самая, что долгие годы была хозяйкой в доме, а теперь стала гостьей – редкой и почти тревожной. Солнце уже перевалило за гребень холма, и его свет, плотный, золотой, лежал на каменном полу неровным квадратом, в котором танцевали пылинки. Она открыла глаза и сперва ощутила не свет, а отсутствие звука: не было ни сопения, ни того тихого бормотания, с которым Иоанн встречал утро.
Сердце, не спросив разрешения, скрутилось в тугой, холодный узел. Она резко села, откинув покрывало. Место рядом, где она укладывала его на ночь, было пусто.
– Иоанн? – шепот сорвался с губ сухим листом.
Она встала, на ходу запахивая хитон. Движения её были быстрыми, но бесшумными, словно тело помнило страх лучше, чем разум. В доме было всего две комнаты, и взгляд её метнулся из одной в другую – пусто. Дверь, которую она на ночь всегда прикрывала камнем, была приоткрыта. Узкая полоска двора дышала утренней прохладой.
Она нашла сына у порога, на границе света и тени. Он сидел на корточках спиной к ней, совершенно поглощенный своим занятием. Рядом с ним лежал на боку большой глиняный кувшин с водой – тот, что Захария наполнял с вечера. Вода вытекла, образовав тёмную, блестящую лужу на утоптанной земле. Иоанн не играл. Он зачерпывал ладошкой грязную воду из лужи и сосредоточенно лил её себе на голову. Струйки стекали по его волосам, по лбу, по щекам, смешиваясь с пылью. Он не смеялся, поскольку серьёзен, как жрец у алтаря.
На миг у Елисаветы перехватило дыхание. Первая волна – облегчение, такая острая, что заломило в груди. Вторая – глухое раздражение, усталость от этого вечного дозора. Вода была драгоценна. Но третья волна, поднявшаяся из самой глубины, смыла всё остальное. Это было изумление. Она смотрела на маленькую спину, на худые плечи, вздрагивающие от прикосновения холодной воды, и видела не шалость, а обряд. Непонятный, дикий и первозданный, словно её сын говорил с водой на языке, который ей был неведом.
– Что же ты делаешь, – выдохнула она, и в голосе не было ни упрёка, ни гнева. Только бесконечная, растерянная нежность.
Он вздрогнул, услышав её, и медленно обернулся. Лицо его было перепачкано грязью, но глаза – глубокие, как вода в колодце, – смотрели ясно и прямо. В них не было вины. Только молчаливый вопрос, на который у неё не было ответа.
Она подошла, опустилась рядом с ним на землю, не боясь испачкать одежду. Взяла его маленькую, мокрую ладонь в свою.
– Пойдём, – тихо сказала она. – Пойдём, умоемся чистой водой.
Она подняла его на руки. Он был тяжёлым, пах мокрой землёй и травой. Сын прижался к ней, уткнувшись холодным носом в шею, и она почувствовала, как его тельце мелко дрожит. В доме она обтёрла его тёплой тканью, переодела в сухое. Затем взяла тряпку и стала вытирать лужу у порога. Прохлада глиняного пола холодила колени. Каждый жест был привычным, но сегодня она делала это иначе – не как хозяйка, наводящая порядок, а как человек, пытающийся осмыслить то, чему не было имени.
В этот момент вошёл Захария. Он вернулся от источника, куда ходил на утреннюю молитву. Он остановился в дверях, глядя на мокрый пол, на жену, стоящую на коленях, на сына, который уже тянул руки к миске с вчерашними оливками. Захария не спросил ни о чём. Он молча поставил свой кувшин, затем вышел во двор, поднял тот, что опрокинул Иоанн, и осмотрел его, проверяя, нет ли трещин. Его лицо было спокойным, как всегда, но в складке у губ затаилось что-то новое – тень улыбки.
Они ели молча, наблюдая, как Иоанн с наслаждением макал хлеб в оливковое масло и размазывал его по столу. Он брал еду руками, и его липкие от инжира пальцы оставляли следы на всём, чего касались. Елисавета смотрела на это, и в ней боролись два чувства: желание порядка, выработанное годами тихой жизни, и радость от этого живого, настоящего хаоса.
Она поймала взгляд Захарии. Он смотрел на сына, и в глазах старого священника, привыкших к мерному дыму кадила и строгости ритуала, плескался тот же свет, что играл в луже у порога, – непредсказуемый, но наполняющий их дом жизнью до самых краёв.
И Елисавета поняла, что та, прежняя тишина, уже никогда не вернётся. И не нужно. Этот мальчик был не просто сыном, а ответом на вопрос, который они боялись задавать вслух. Он был не гостем в их молчании, а вихрем, что ворвался в их дом, чтобы не утихать уже никогда.
К пяти годам Иоанн уже был не просто ребёнком, а искрой, что ждала ветра. Он бегал по Аин-Кариму, знал каждый камень, каждую тропу, где рос тимьян, и находил мёд диких пчёл, принося его матери в липких ладошках. «Откуда ты знаешь, где искать?» – смеялась Елисавета, а он, улыбаясь, говорил: «Пчёлы шепчут». Он любил пустыню за холмами, где песок был горячим, как очаг, и уходил туда с отцом, слушая, как он говорит о Боге, что ведёт через тьму. Иоанн смотрел на горизонт, и его маленькое сердце билось учащенно, будто знало, что его голос однажды станет криком в такой же пустыне.
Как-то Елисавета развешивала на верёвке постиранную одежду. Солнце било сквозь ткань, и она пахла чистотой, водой и детством. В калитку постучали – тихо, почти нерешительно. Это была Наара, их соседка, вдова, чей сын был почти ровесником Иоанна.
– Мир твоему дому, Елисавета, – сказала она, входя во двор. В руках её была пустая глиняная чаша. – Прости, что беспокою, но не найдётся ли у тебя горсти чечевицы? Моя закончилась, а до рынка ещё два дня.
– Конечно, Наара. Входи, – Елисавета пошла в дом, где в мешочках хранились припасы.
Наара вошла, но остановилась посреди комнаты, с любопытством оглядываясь. Её взгляд был быстрым, цепким, как у птицы. Он задержался на детской кровати, на маленькой рубашке, сохнущей на спинке стула.
– А где же твой? – спросила она вполголоса.
– Где-то с отцом, – ответила Елисавета, отсыпая чечевицу в чашу.
– Слышу, тихо у вас сегодня, – Наара улыбнулась, но глаза её остались серьёзными. – Мой-то кричит с самого утра, зуб у него болит. А твой… он другой. Молчаливый.
Елисавета почувствовала, как внутри что-то сжалось. Она знала этот тон. В нём была не злоба, а то самое деревенское любопытство, которое могло быть хуже злобы, ибо лезло под кожу, взвешивало, и оценивало.
– Он не всегда молчит, – ровно сказала она, протягивая чашу.
– Да я же по-доброму, – поспешно сказала Наара, принимая чечевицу. – Просто… глаза у него. Вчера видела, как он на источник смотрел. Не как дети смотрят, а как старик, будто знает что-то. А Захария… это правда, что он ему уже из свитков читает?
Вопрос повис в воздухе, густом от жары и запаха сушёных трав. Елисавета выпрямилась. Она ощутила себя так, словно её дом вдруг перестал быть её крепостью. Стены стали тонкими, проницаемыми для чужих взглядов и шёпота.
– Он слушает, – только и ответила она.
Наара кивнула, отведя глаза.
– Что ж, благослови тебя Господь за доброту. Пойду я.
Она быстро ушла, оставив после себя шлейф невысказанных мыслей. Елисавета ещё долго стояла посреди комнаты, держа в руках мешочек. Она слышала, как во дворе раздаётся мерный стук камней. И впервые за эти пять лет она почувствовала не только радость от своего чуда, но и его вес. Их сын был не просто их сыном, а знамением, а они всегда привлекают взгляды, которые не все бывают добрыми. Она подошла к окну и посмотрела на мужа и сына, уже сидящих на большом валуне. Они были отдельным, замкнутым мирком, но она знала, что большой мир вокруг уже заметил их и будет наблюдать.
Зной полуденного часа навалился на деревню, и жизнь в ней замерла. Затихли голоса, скрылись в тени домов даже собаки. Воздух стал плотным, дрожащим, и, казалось, само время остановилось, чтобы перевести дух. Елисавета, сморённая жарой и тихими тревогами, прилегла на лавку в самой прохладной части дома. Иоанн, утомлённый игрой, спал рядом на овечьей шкуре. Его дыхание было ровным и тихим, и под это мерное сопение Елисавета и сама задремала, уронив голову на грудь.
Ей не снилось ничего, но сквозь дремоту она почувствовала, как изменился воздух. Лёгкий сквозняк коснулся её щеки, забравшись в дом через приоткрытую дверь. Она не сразу открыла глаза, но, когда открыла, первой мыслью было: слишком тихо. Дыхания сына рядом больше не было слышно, и шкура была пуста.
Елисавета вскочила. Сердце споткнулось и забилось часто, как пойманная птица.
– Иоанн?
Она выбежала во двор. Пусто. Скамья одиноко стояла на солнце. Она обежала дом, заглянула за куст мирта, под навес с травами. Никого.
Страх был не мыслью, а ледяным уколом в живот. Она бросилась по тропинке, ведущей из деревни. Пыль поднималась из-под её ног. «Иоанн!» – крик застрял в горле, превратившись в хриплый шёпот. Она знала, куда он мог пойти. Его всегда тянуло туда – на край, где земля обрывалась и открывался вид на долину, где ветер гулял свободно, не стеснённый ни стенами домов, ни ветвями деревьев.
Она нашла его там. Он стоял на самом краю обрыва, спиной к ней. Маленькая фигурка, неправдоподобно хрупкая на фоне бездонной синевы неба. Он не смотрел вниз, а протягивал руки вперёд, к ветру и бросал в пустоту сухие листья, мелкие веточки и горсти пыли. Он не играл, а словно кормил ветер с рук.
Увидев его, Елисавета не почувствовала облегчения. Её захлестнул слепой, животный гнев, что рождается из смертельного страха. Она подбежала, схватила его за плечо, может быть, сильнее, чем хотела и развернула к себе.
– Что ты делаешь?! Ты не должен сюда приходить сам! Никогда!
Он посмотрел на неё снизу вверх, и его лицо, обычно такое серьёзное, исказилось от обиды и испуга. Он заплакал – громко, отчаянно, не так, как плачут от боли, а так, как плачут от непонимания и внезапно разрушенного мира.
И в тот же миг гнев её схлынул, оставив после себя лишь горькую пустоту и безграничную усталость. Она рухнула на колени, прижала его к себе, вдыхая запах его волос – запах солнца, пыли и ветра. Она целовала его перепачканное слезами лицо, лоб, руки и шептала бессвязные слова извинения, мольбы и причитания. Он вцепился в неё, и его плач перешёл в тихие, судорожные всхлипы.
Елисавета несла его домой на руках. Он был тяжёлым, и дорога в гору казалась бесконечной. Она чувствовала, как ноют её руки и спина, но не отпускала его, прижимая к себе так крепко, словно боялась, что ветер может вырвать его и унести.
Когда они вернулись, солнце уже коснулось вершин дальних холмов. Захария сидел на пороге. Он увидел их – сгорбленную, измученную Елисавету и спящего у неё на руках сына с мокрыми от слёз ресницами – и не задал ни одного вопроса, всё поняв по её лицу. Он молча встал, взял у неё Иоанна и унёс в дом, уложив в кровать.
Вечером они сидели втроём в тишине, которая снова вернулась в их дом. Но это была уже другая тишина. Не пустая, а наполненная до краёв пережитым днём, в котором ощущался холодный ужас обрыва.
Захария зажёг масляную лампу и свет её выхватил из полумрака их лица – постаревшие, усталые. Он посмотрел на спящего сына, потом на жену. Подошёл к сундуку и достал свиток пророка Исаии. Затем сел ближе к огню и его пальцы стали медленно разворачивать пергамент.
Он начал читать вполголоса. Не для сына, который спал, и даже не для Елисаветы, а для себя, чтобы найти в древних, вечных словах опору и уложить этот безумный, непостижимый день в рамки пророчества: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему».
Елисавета слушала, закрыв глаза. И в этот миг она поняла с окончательной и пронзительной ясностью: этот мальчик, спящий в их доме, этот ребёнок, рождённый из её плоти, никогда не будет принадлежать им и дому, ставшему лишь на время его пристанищем…
Годы текли не как вода в источнике, быстро и заметно, а как смола на стволе старой сливы: медленно, капля за каплей, почти не меняя ничего на поверхности, но сгущаясь и темнея внутри. Прошло еще два года. Гранатовое дерево во дворе, когда-то почти бесплодное, теперь каждую осень роняло на землю несколько треснувших плодов, обнажая рубиновые зёрна. Дом осел, врос в скалу, и виноградная лоза у входа стала толще руки Захарии.
Иоанн вытянулся. Он не был крепким, как сын Наары, не был и ладным. Мальчик был жилистым, угловатым, сотканным из нервов и костей, с кожей, потемневшей от солнца до цвета обожжённой глины. Его движения остались порывистыми, но в них появилась странная, хищная грация, как у дикого животного.
Он мог молчать часами, а потом задать вопрос, от которого у Елисаветы замирало сердце: «Мать, почему ветер не имеет цвета?» или «Если я положу ухо к камню, услышу ли я, как растёт земля?» Он не играл с другими детьми не потому, что они его гнали, а потому что их игры казались ему бессмысленными.
Однажды сын Наары, Давид, прибежал во двор с новым деревянным волчком, раскрашенным в красные и жёлтые полосы. Он с гордостью запустил его на утоптанной земле. Волчок зажужжал, завертелся, расплываясь в яркое пятно.
– Смотри, Иоанн! – крикнул Давид, сияя от восторга. – Смотри, как он танцует!
Иоанн, сидевший на корточках у стены, оторвал взгляд от своего занятия. Он не смотрел на волчок, поскольку с предельным вниманием наблюдал за муравьём, который тащил на себе сухую сосновую иголку в три раза больше его самого. Иоанн медленно протянул палец и осторожно убрал с пути муравья маленький камешек. Муравей прошёл. Иоанн снова посмотрел ему вслед, и на его лице было то же сосредоточенное выражение, с каким Захария читал свитки.
– Ты что, не видишь? – обиженно крикнул Давид, когда его волчок остановился. – Он же умер!
Иоанн поднял на него свои тёмные, спокойные глаза.
– Он не умер, – тихо сказал он. – Он просто устал. А муравей – нет.
Давид нахмурился, не понимая. Он пнул свой волчок, схватил его и, бросив через плечо «странный ты», убежал к другим детям, чей смех доносился с улицы. Елисавета, стоявшая в дверях, видела всё. И её сердце сжалось от той знакомой, тупой боли – не за себя, а за сына, за его вечное, глубинное одиночество, которое он сам, казалось, совсем не замечал.
Захария избрал другой путь. Он решил, что, если мир не может научить его сына своему языку, он научит его языку Бога. Когда Иоанну исполнилось семь, отец впервые вывел его на ровную площадку за домом с дощечкой, покрытой воском, и палочкой.
– Сегодня мы начнём учить буквы, – сказал он так же торжественно, как говорил бы в Храме. – Это – Алеф. – Он начертил на воске первую букву еврейского алфавита. – С неё начинается слово «Ав» – Отец. И «Элохим» – Бог. Повтори.