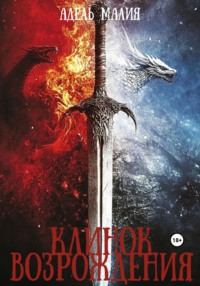Полная версия
Падение в твою Пустоту
Я смотрела на него: на этого сломленного, опасного, отвратительного и вдруг невыносимо одинокого человека. Комок из ненависти, жалости и чего-то ещё, чему я не могла дать имени, стоял у меня в горле. Я не могла просто уйти. Не сейчас.
– Вам нужно прекратить. И лечь, – тихо, но твёрдо сказала я, и мой голос прозвучал чужим в гнетущей тишине. – Ничего конструктивного в таком состоянии не рождается.
Он открыл глаза, смотрел сквозь дым, сквозь меня, словно я была лишь ещё одним призраком в его личном аду.
– Лечь? – послышался хриплый, беззвучный смешок, больше похожий на выдох. – А ты посиди со мной. Хоть немного. Без… без отчётов. Без Псалтыря.
Он снова затянулся. Уголёк сигареты ярко вспыхнул в полумраке, и его рука, держащая её, неловко дёрнулась. Тлеющий уголёк сорвался и упал ему на колено, затем скатился на сиденье кресла рядом с бедром. Дорогая кожа мгновенно задымилась, почернела, появилось крошечное тлеющее пятнышко, распространяя едкий, тошнотворный запах палёной кожи.
– Мистер Диас! Сигарета! – воскликнула я, порывисто сделав шаг вперёд.
Он медленно опустил взгляд, словно осознавая происходящее с огромной задержкой. Увидел дымок, тлеющую дыру. Его лицо исказилось странной гримасой – не испуга, а скорее глубочайшего, всепоглощающего безразличия и усталости.
– Хрен с ним… – пробормотал он глухо, даже не пытаясь смахнуть пепел или затушить тление. – Пусть горит. Вся эта… помойка.
Без раздумий, на чистом адреналине, я схватила тяжёлую хрустальную пепельницу со стола и, не колеблясь, с силой прижала её холодным, гладким дном к тлеющему пятну. Послышалось короткое, злое шипение, и вонь усилилась, смешавшись с запахом гари и табака. Я держала пепельницу, чувствуя, как стекло нагревается под пальцами, пока дым не перестал подниматься.
– Вы рискуете сжечь не только кресло, – сказала я, убирая пепельницу. На сиденье зияло чёрное, оплавленное пятно размером с монету – уродливое, дымящееся клеймо его саморазрушения.
Он смотрел на оплавленное пятно, это уродливое клеймо его падения, затем медленно поднял на меня глаза. В них не было ни капли благодарности – только пустота и то глубинное, всепоглощающее отчаяние, которое не могла скрыть даже алкогольная пелена.
– Спасибо… – прохрипел он, и в его голосе звучала горькая, саморазрушительная издевка. – Спасительница… Теперь можешь идти. К своему… дружку. Адам ждёт, да?
Его голос на последних словах стал ядовитым, полным ревнивой злобы, которая резанула неожиданно остро.
Я почувствовала, как сжимается сердце, но одновременно испытала странное облегчение: повод уйти был наконец дан.
– Да, ждёт, – подтвердила я холодно, поднимая сумку. – Я ухожу. И вам настоятельно советую лечь спать. И вызвать кого-нибудь… убрать это. – Я кивнула на испорченное кресло.
Я повернулась и решительно пошла к двери. Его взгляд прожигал мне спину: тяжёлый, полный немого обвинения и чего-то ещё… чего-то, что заставляло меня ускорять шаг, почти бежать.
– Останься… – его слова донеслись сзади, внезапно тихие, сломленные, почти умоляющие, совершенно лишённые прежней агрессии. – На ночь… Пожалуйста… Не уходи.
Я остановилась у двери, не оборачиваясь, рука уже на бронзовой ручке. Искушение было сильным – не из жалости, а из животного страха перед тем, что он мог натворить в одиночестве с огнём, виски и своей яростью. Но остаться значило перечеркнуть все границы, все условия, перечеркнуть саму себя.
– Нет, – сказала я чётко, вкладывая в слово всю свою волю. – Я не могу. И не буду. Спокойной ночи, мистер Диас.
Я вышла, не оглядываясь, и плотно закрыла за собой тяжёлую дубовую дверь библиотеки, словно захлопнула крышку гроба. В холле было тихо и пусто, лишь мои шаги гулко отдавались по мрамору, а за высокими окнами монотонно стучал дождь, барабаня по стеклу как будто в такт моему учащённому сердцебиению. Я накинула пальто, не застёгивая, и вышла через парадную дверь.
Холодный ливень обрушился сразу, хлеща по лицу ледяными струями, забиваясь за воротник, пронизывая до костей. Я натянула капюшон, но он тут же облепился мокрой тряпкой, совершенно бесполезный. Асфальт блестел чёрной маслянистой гладью под редкими фонарями, отражая размытые блики света. Вдалеке, у ворот, уже маячили фары машины Адама – тёплый, спасительный островок в этом водяном хаосе.
Не успела я сделать и десяти шагов по мокрому асфальту, как парадная дверь особняка с грохотом распахнулась. Джеймс вышел на крыльцо. Он был без пальто, без рубашки, только в тех же чёрных брюках, мгновенно темнеющих от проливного дождя. Он стоял, слегка раскачиваясь, как мачта в шторм, уперевшись горящим взглядом мне в спину. Вода потоками стекала по его голому торсу, сбивая тёмные волосы на лоб, заставляя его моргать и отплевываться. Он казался призраком – потерянным, безумным, бесконечно обнажённым и уязвимым перед стихией и надвигающейся гибелью.
Я рванула дверь машины и нырнула внутрь, на сиденье к Адаму. Тепло салона и его знакомый, озабоченный запах кожи и кофе стали мгновенным убежищем.
– Всё в порядке? – тревожно спросил Адам, его глаза метались от моей промокшей фигуры к одинокой, безумной фигуре на крыльце. – Это же он? Что он, с ума сошёл?
– Просто едем, Адам, – перебила я, голос дрожал, зубы стучали от холода и нервного перенапряжения. – Пожалуйста, просто едем. Сейчас же.
Адам резко кивнул, включил передачу. Машина плавно тронулась с места, приближаясь к медленно, почти нехотя раскрывающимся чугунным воротам.
Я опустила стекло. Ледяной ветер с дождём ворвался в салон, брызги ударили мне в лицо.
– Джеймс! Иди домой! – крикнула я в сторону крыльца, голос сорвался на визгливую ноту. – Ты промокнешь насквозь и заболеешь! Иди же!
Он стоял неподвижно, как статуя безумия под ливнем, вода ручьями стекала с него на каменные плиты. Потом его рука резко, почти механически взметнулась вверх. Средний палец. Жест был резким, грубым, полным абсолютного, всепоглощающего презрения – ко мне, к Адаму, к дождю, к самому себе, ко всему миру.
– Пос-срать! – его хриплый, сорванный крик перекрыл шум ливня и рёв мотора. – Идите к чёрту! Оба! Ко всем чертям!
Адам резко притормозил, уже у самых ворот. Он высунулся из своего окна, его голос прозвучал резко, пытаясь перекричать стихию:
– Эй, друг! Остынь! Зайди внутрь, пока не…
Но Джеймс уже повернулся к нам спиной. Его ответ был краток и ярок: он снова взметнул руку, средний палец был нацелен прямо в нашу сторону, и, не оборачиваясь, пошатнулся обратно в зияющую черноту распахнутой двери особняка, словно поглощённый мраком.
Адам резко, почти яростно нажал на газ. Машина рванула вперёд, а я захлопнула стекло, откинулась на сиденье и закрыла глаза. Дождь яростно барабанил по крыше, словно пытаясь пробиться внутрь. Капли, стекающие по моему лицу, были солоноватыми на губах – то ли дождевые, то ли слёзы облегчения, ужаса и той странной, гнетущей вины, что теперь навсегда стала частью меня. Второй день после битвы закончился. Война продолжалась. И лёд под ногами трещал всё громче, напоминая о тёмной, холодной пропасти внизу.
Глава 17: Искусственное Солнце
Мир за окнами автомобиля растворился, превратившись в слепящее месиво из расплывчатых серых огней и потёков на мокром асфальте, пока дождь яростно хлестал по крыше, словно отчаянно пытаясь до нас добраться. Тепло салона, густое и обволакивающее, пахло освежителем и сладковатым ароматом влажной шерсти моего свитера – оно казалось таким хрупким, таким обманчивым убежищем после ледяного ада того особняка и того шокирующего, безумного видения, что было на крыльце.
Я сидела, сжавшись в комок, и всё ещё дрожала – но не от пронизывающего холода, а от адреналина, что бурлил в крови, и от той жуткой, выжженной в памяти картины, что не желала отпускать моё сознание. Полуголый под ледяными струями ливня, Джеймс сжимал кулак, и его поднятый средний палец был больше чем жестом – он был символом абсолютного, исходящего из самой глубины души презрения, криком саморазрушения, от которого сжималось сердце.
– Ева… – голос Адама пробился сквозь вой мотора и бесконечный стук дождя, звучал осторожно, выверяя каждое слово. Он сбросил скорость, и машина, осторожно лавируя по залитым улицам, будто плыла сквозь ночь. Его профиль, подсвеченный призрачным светом приборной панели, был отчётлив и напряжён, а сжатая челюсть говорила о внутренней буре красноречивее любых слов. – Что это было? Что с ним? Он… он выглядел как…
Адам искал слово, пытаясь найти единственно верное, способное описать неописуемое, и оно сорвалось с его губ, грубое и беспощадное.
– Как псих. Настоящий псих. Он всегда такой? После того, как ты… после того, что он с тобой сделал?
Я закрыла глаза, и под веками тут же вспыхнул его образ – пьяный, агрессивный, а затем внезапно жалкий и яростный одновременно, врезавшийся в самое нутро, словно острый осколок стекла. Его хриплое «Идите к чёрту! Оба!» всё ещё эхом отдавалось в ушах, сливаясь с безумным барабанящим по металлу ритмом дождя.
Но рядом с этим кошмаром жила и другая память: его рука, тянущаяся ко мне в полумраке библиотеки в немой, отчаянной мольбе о помощи; его глаза на кладбище, полные немого признания и такой глубокой, невыносимой боли, что, казалось, в них можно утонуть. Во мне разверзалась целая вселенная его противоречий – каждого из которых било по нервам с безжалостной силой, оставляя на душе синяки и щемящую, пронзительную жалость.
– Он не псих, Адам, – прошептала я, и слова повисли в воздухе, такие же хрупкие, как наше убежище от бури за окном. Я открыла глаза, уставившись на потоки воды, безостановочно стекавшие по стеклу, словно город оплакивал что-то безвозвратно утраченное. – Он под колоссальным давлением. Клиент его уничтожает. А сегодня… он просто не выдержал и треснул.
В моём голосе звучала защита, которую я сама едва понимала – инстинктивная, почти болезненная потребность оградить его образ от чёрно-белого приговора Адама. Я оправдывала неоправданное, смазывая чёткие контуры ужаса размытой акварелью жалости. Но мысль о том, что Адам видит в нём лишь чудовище, причиняла физическую боль. А разве я сама не кричала внутри от страха перед ним всего несколько часов назад?
– Треснул? – Адам фыркнул, и это был короткий, сухой, безжалостный звук. Его пальцы впились в руль так, что кожа на костяшках натянулась и побелела. – Это не трещина, Ева, это обвал! И это не снимает с него ответственности! Он опасен, ты ведь видела его? Голый по пояс, пьяный в стельку! И этот взгляд… пустой, как вытоптанное пепелище! Он смотрел на тебя, как на что-то опостылевшее, от чего тошнит! И этот палец… Боже, этот палец!
Он умолк, глотая воздух, и в тишине, заполненной шумом дождя, его голос прозвучал уже с горьким недоумением:
– И после всего этого… после того, как он использовал тебя и выбросил, как мусор… ты всё ещё цепляешься за него? Как будто он – единственная соломинка в этом бушующем море? Что он с тобой сделал? Что за колдовство он применил, чтобы ты так слепо верила в его боль, забыв о своей собственной?
Адам видел лишь грохот землетрясения – пьяный угар, унизительную агрессию, похабный жест. Он не видел тишины после катастрофы. Он не видел той бездны отчаяния, в которой Джеймс бился, как пленённый зверь, не чувствовал того странного, разрушительного магнетизма его падения, что притягивал и обжигал одновременно. Он не был с нами в библиотеке, где боль витала в воздухе, густая и осязаемая, он не видел его лица на кладбище, в момент того надрывного, искреннего признания в своём бессилии.
– Он не сделал со мной ничего такого, о чём ты думаешь, – выдохнула я, отворачиваясь к тёмному, расплывчатому миру за окном, чувствуя, как по коже щёк ползут предательские капли – солёные, как моё смятение, и холодные, как правда, которую я прятала даже от себя. – Всё… всё гораздо сложнее, Адам. Невыразимо сложнее. Я не цепляюсь слепо. Я просто… я вижу его. И я знаю, что его довели до края.
Мои слова повисли в воздухе пустыми раковинами, звеня фальшивой нотой даже в моих собственных ушах. Я и сама не могла понять эту глухую, инстинктивную потребность защищать человека, чьё презрение обожгло меня изнутри, оставив после себя горький пепел.
В салоне воцарилась тяжёлая, давящая тишина, нарушаемая лишь монотонным шёпотом дождя и усталым скрежетом стеклоочистителей, метавшихся из стороны в сторону, словно пытаясь расчистить не только стекло, но и этот непроглядный туман между нами. Адам молчал, и в этом молчании чувствовалась целая буря – я почти физически ощущала, как он борется с нахлынувшими чувствами, сжимая зубы, пытаясь прогнать прочь ком обиды и гнева, застрявший в горле.
И тогда он произнёс это. Тихим, сдавленным голосом, в котором дрожала неуверенность и страх перед ответом, который мог его разрушить:
– Ева… Скажи мне правду. Он тебе нравится? По-настоящему? Несмотря на… на всё это?
Вопрос повис в нашем маленьком убежище острым, холодным лезвием, рассекая воздух и добираясь до самой сути хаоса, что бушевал у меня внутри. «Нравится»? Это детское, простое слово было смехотворно мелким и невинным для того клубка противоречий, что сжимал мне горло. Ненависть, граничащая с болезненным влечением; леденящий страх, переплетающийся с щемящей жалостью; отвращение и какая-то извращённая ответственность – как можно было назвать это одним словом?
Я уставилась в окно, на промокший до нитки город, где огни фонарей расплывались в потоках воды, превращаясь в призрачные золотые маки. На отражение моего собственного лица в стекле – усталое, бледное, изломанное бегущими струями, словно сама вселенная стирала мои черты, не давая мне увидеть себя ясно.
– Я не знаю, Адам, – выдохнула я наконец, и это была горькая, но единственная правда, чистая и прозрачная, как капля в этом море сегодняшней лжи. – Я не знаю, что я чувствую. Я не хочу сейчас этого знать. Я не хочу думать. Ни о нём. Ни о работе… Ни о чём вообще.
Я резко, почти отчаянно повернулась к нему. В полумраке салона его профиль был напряжённым и озабоченным, а в глазах, подёрнутых тенями, плясали отражения встречных фар – крошечные, одинокие огоньки в темноте, в которых читалась вся его непроизнесённая тревога.
– Давай сбежим, – вырвалось у меня, и голос прозвучал неестественно-восторженно, вымученно-бодрым бубенчиком, сорвавшимся с ёлки. – Прямо сейчас. Куда угодно. Туда, где громко, ярко, тесно от людей, где можно… раствориться. Хоть на час. Помнишь «Капкан»? Давай махнём туда! Выпьем горьких шотов, чтобы глаза на лоб лезли, и будем танцевать до седьмого пота, пока ноги не откажут… Как тогда, помнишь? До всей этой… До Джеймса, до…
Я пыталась вдохнуть в слова беззаботность, которой не было в помине, растянуть губы в подобие улыбки, но внутри всё сжималось в тугой, дрожащий комок. Мне до физической боли нужна была резкая смена декораций, чтобы оглушить внутренний визг грохотом басов и залить тлеющий в душе пожар чем-то крепким и обжигающим.
Адам бросил на меня быстрый, испытующий взгляд. В его глазах, выхваченных отсветом неона, мелькнуло понимание и тревога – он видел насквозь эту попытку заткнуть зияющую рану ватой дешёвого веселья. Но, возможно, и его собственная душа израненная и смурная после кошмара у особняка Диаса, жаждала того же – забытья, пусть и дурацкого, пусть и ненадолго.
– «Капкан»? – он поморщился, проводя ладонью по лицу, словно стирая с него усталость. – Ева, там же давка, как в метро в час пик, адская какофония… одни выпендрёжники. Может, лучше ко мне? Тишина, диван, я могу сделать тот самый рамен с яйцом… Поговорим. Или просто помолчим.
– Нет! – вырвалось у меня слишком резко, почти истерично. Я тут же взяла себя в руки, сделав голос мягче, но в нём зазвучала неподдельная, почти детская мольба. – Пожалуйста, Адам. Мне необходимо именно это. Этот оглушительный шум. Эта толпа, в которой можно затеряться. Эта музыка, бьющая в грудь, как молот. Мне нужно, чтобы она перекрыла всё остальное. Хоть на полчаса. Чтобы я перестала слышать саму себя. Поедем? Ну, пожалуйста…
Он задержал взгляд на моём лице, выискивая что-то, и, кажется, нашёл. Тяжело вздохнув, он щёлкнул указателем поворота, и машина плавно сменила курс, нырнув в поток машин, устремлённых к светящемуся центру города. Фары выхватывали из мокрой темноты промокшие деревья, размытые знаки, призрачные тени встречных автомобилей.
– Ладно, – сдался он безрадостно, сдавленно. – Но если станет невмоготу… если почувствуешь, что накрывает – мы немедленно свалим. Без обсуждений. Ты поняла? Ты просто говоришь «всё», и мы уезжаем. Договорились?
– Договорились, – выдохнула я с облегчением, которое было таким же хрупким и ненадёжным, как узор на запотевшем стекле. Но уже одно это решение – сменить точку на карте, двинуться куда-то – принесло призрачное успокоение. Хотя бы иллюзия действия, побега.
«Капкан» обрушился на нас целой лавиной звука, сметающей всё на своём пути. Грохочущие басы впивались прямо в грудную клетку, заставляя вибрировать каждое ребро, каждый нерв. Воздух был не просто густым – он был плотным и сладковато-прогорклым коктейлем из дешёвых духов, влажного тела, табачной гари и перегара, которым можно было почти подавиться. Ослепляющие вспышки стробоскопов и неоновых прожекторов выхватывали из кромешного хаоса обрывки реальности: мелькающие в такт тела, разинутые в беззвучном крике рты, блеск стёкол, искажённые гримасой веселья лица. Это был идеальный, оглушительный антипод ледяной тишине библиотеки и давящему величию особняка Диаса. Место, где можно было перестать быть собой, раствориться в этом пульсирующем организме, стать лишь каплей в этом море анонимного безумия.
Мы протиснулись к барной стойке, утопая в море чужих локтей, липких от пота спин и бесцеремонных взглядов. Я, не глядя, ткнула пальцем в первую же бутылку за стеклом и заказала два шота текилы. Адам что-то пытался сказать, его пальцы мягко сомкнулись на моём запястье, но я была уже вне зоны досягаемости. Я опрокинула первый стаканчик, и огненная река прожгла горло, заставив глаза непроизвольно покрыться влагой. Второй – сразу же, на одном дыхании, чтобы не дать себе опомниться. Горечь соли на губах, едкая кислота лайма и вслед за ними – разливающийся по жилам жгучий, обманчивый жар. Почти мгновенно накатила волна искусственного тепла, сглаживая острые углы, размывая чёткие и такие болезненные контуры мира. Я тут же махнула бармену, заказывая что-нибудь яркое, сладкое и обязательно крепкое. «Соседство»? Идеально.
– Ева, полегче, ты же не одна, – его голос пробивался сквозь грохот, как сквозь густой туман, но доходил уже издалека.
– Я в порядке! Всё отлично! – прокричала я ему прямо в ухо, растягивая губы в неестественной, слишком широкой улыбке, которая отзывалась болью в скулах. – Пошли танцевать! Прямо сейчас!
Я потянула его за руку, втягивая в самую гущу танцпола, в этот бьющийся ритмом живой организм из тел. Мы растворились в толпе, став частью единого, пульсирующего целого. Музыка захватывала тело, заставляла его двигаться помимо воли, отключая мозг и включая какие-то древние, животные инстинкты. Я зажмурилась и отдалась на волю ритма, позволив ему унести меня подальше от самой себя. Руки взметнулись вверх, движения стали широкими, резкими и порывистыми – будто я физически пыталась вытряхнуть из себя всё накопленное за этот вечер: едкий стыд за своё участие в этом уродливом цирке, леденящий страх перед Джеймсом и той бездной разрухи, что он в себе нёс, острую боль от его последних слов и того похабного жеста, что врезался в память. Я вытанцовывала из себя навязчивый образ – его под дождём, его слова, его прикосновения, то внезапно нежные, то грубые, и этот ледяной, обесчеловечивающий взгляд, прожигающий насквозь.
Адам танцевал рядом, старательно подстраиваясь под мой безумный ритм. Его движения были менее уверенными, более сдержанными, осторожными – он не отпускал себя на волю, как я. Он смотрел на меня, и даже в сумасшедшем мелькании стробоскопов в его взгляде читалась лишь тревога. Он видел не освобождение, а паническую попытку сбежать от самой себя и затоптать внутреннюю боль в грохочущем паркете.
Я делала большие, жадные глотки своего коктейля, чувствуя, как сладковатый алкоголь разливается по венам тяжёлой, тёплой волной, затуманивая сознание, делая мысли вязкими и медленными. Танцевала всё безумнее, смеялась слишком громко и слишком часто, ловила и возвращала улыбки и подмигивания незнакомцев. Адам старался не отставать, подыгрывал, подпрыгивал, но его улыбка была натянутой маской, а в глазах стояла неизменная тревога. Он попытался обнять меня в такт неожиданно прозвучавшему медленному куплету, притянуть ближе, найти точку опоры в этом безумии, но я увернулась, превратив это в игру, начав кружиться вокруг него, как мотылёк вокруг слишком спокойного и надёжного пламени. Его прикосновения были тёплыми, безопасными, предсказуемыми и по-дружески мягкими. В них не было и сотой доли того разрушительного электричества, той опасной гравитации, того голода, что я ощущала в редких, случайных прикосновениях Джеймса. Это было… мило. Удобно. И до слёз, до боли недостаточно, чтобы заполнить ту зияющую пустоту, что осталась после сегодняшнего вечера.
И вот, когда музыка сменилась на пронзительную, душещипательную балладу, а свет приглушили, окрасив зал в глубокую, тоскующую синеву, Адам снова попытался притянуть меня к себе. На этот раз я не сопротивлялась. На автомате, я положила голову ему на плечо, закрыв глаза. Пахло его одеждой – чистый хлопок, знакомый, уютный запах стирального порошка. Никаких следов дорогого виски, сигаретного дыма и безумия. Его рука осторожно, почти робко легла на мою талию, и в её тепле не было ничего, кроме тихой, преданной заботы.
– Лучше? – его голос прорвался сквозь музыку, тихий и тёплый, как само его дыхание, коснувшееся моей щеки.
Я кивнула, уткнувшись лицом в мягкую ткань его рубашки, пытаясь вдохнуть этот знакомый, нормальный, безопасный запах глубже, впитать его, как противоядие. Голос прозвучал приглушённо, уткнувшись в ткань:
– Да. Спасибо, что привёз меня сюда. Спасибо, что… ты есть.
Но это была ложь, сладкая и липкая, как сироп в моём коктейле. Даже здесь, в самом эпицентре этого искусственного шторма, среди криков, тел и оглушительной музыки, под эту томную, разбитую мелодию о чьей-то потерянной любви, я чувствовала его. Его тень. Его тяжёлое, незваное присутствие витало на периферии сознания, отравляя всё вокруг, окрашивая веселье в тревожные, ядовитые оттенки. Та связь, что тянулась между нами, оказалась прочнее его слов, его поступков, прочнее всего этого мишурного блеска. Образ полуголого человека под ливнем, с его поднятым пальцем – жестом окончательного, бесповоротного разрыва, – стоял передо мной ярче любых ослепительных прожекторов. И я знала, знала каждой клеткой своего опьяневшего, измотанного тела, что это искусственное забвение – лишь временная передышка. И мысли о нём, о Джеймсе Диасе, вернутся. Неизбежно. С новой, удвоенной силой. Вместе с утренней тяжёлой головой и леденящим, беспощадным осознанием: хрупкое перемирие сегодняшнего дня было растоптано в пьяном угаре и выброшено в грязь вместе с его презрением.
Мы танцевали ещё несколько песен, но чем дольше длился этот оглушительный хаос, тем явственнее я ощущала, как трещины в моём показном веселье расширяются, углубляются, грозя обрушиться в пустоту. Алкоголь притупил остроту, но не убил мысли – лишь растянул их, сделал вязкими и навязчивыми, как паутина. Стоило закрыть глаза на долю секунды – и он уже был там. Сжатые кулаки. Тёмные, мокрые от дождя волосы, прилипшие ко лбу. Искажённое яростью и болью лицо. Глаза, полные ненависти и… чего-то ещё, чего я никак не могла понять, но что пронзало меня насквозь. Этот образ был живее и реальнее любого человека в этом клубе.
– Может, хватит? – Адам наклонился ко мне, его голос прозвучал устало и тревожно. Он выглядел измождённым, будто нес на своих плечах не только свой груз, но и мой. – Пора? Ты выдохлась.
Я молча кивнула, внезапно с поразительной ясностью осознав, что больше не выношу ни этого оглушающего гула, ни слепящих вспышек, ни прикосновений чужих потных тел. Меня физически тошнило от фальши этого места, от собственной притворной легкости. Мы стали пробиваться к выходу, расталкивая упругие волны танцующих, и вот холодный ночной воздух, густой и влажный, ударил в лицо – резкий, почти шокирующий, заставивший вздрогнуть и на мгновение перехватить дыхание. В ушах стоял звон, голова кружилась, а во рту было сухо и противно, словно я наглоталась пепла.
– Тебе правда стало хоть немного легче? – тихо спросил Адам, когда мы уселись в машину, и непривычная тишина салона обрушилась на нас, оказавшись почти оглушающей после клубного ада. Он не заводил мотор, повернувшись ко мне всем корпусом, и в его глазах читалась неподдельная забота. Я молчала, уставившись в запотевшее окно. Огни города расплывались в каплях дождя на стекле, словно чьи-то бесконечные слёзы. Моё собственное отражение в стекле казалось бледным призраком с размазанными тёмными подтёками туши.