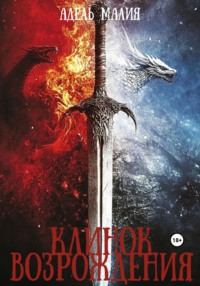Полная версия
Падение в твою Пустоту
Беги! – закричал инстинкт. Я резко ускорила шаг, уставившись прямо перед собой на убегающую вперёд дорожку, стараясь не видеть его, не чувствовать его тяжёлого взгляда.
Он оттолкнулся от дерева. Резким, отточенным движением швырнул недокуренную сигарету на мокрую от росы землю и раздавил её каблуком дорогого, безупречно чистого ботинка с жестокой, почти злобной точностью. И пошёл за мной. Шаги – не быстрые, но длинные, твёрдые, неумолимые, с чётким ритмом, отмеряющим сокращающуюся дистанцию. Звук его шагов по гравию аллеи грохотал в тишине громче выстрелов. Я перешла почти на бег, сумка билась о бок.
– Ева, – его голос, низкий, хриплый от сигарет или напряжения, прозвучал сзади, гораздо ближе, чем я ожидала.
Я не обернулась. Закусила губу, пытаясь дышать глубже, ускорилась ещё, спотыкаясь о неровность тропинки.
Его рука, сильная, железная, обхватила меня за предплечье выше локтя. Рывок – не грубый, но невероятно мощный, не оставляющий выбора, остановил меня на месте, заставив резко развернуться к нему лицом к лицу. Его пальцы впились в мышцу сквозь ткань пальто и свитера, не причиняя боли, но и не позволяя двинуться. Его близость, его запах – дорогая шерсть, холодный воздух, дым и что-то неуловимо его, мужественное и тревожное – ударили в нос, смешавшись с запахом прелых листьев.
– Пусти! – вырвалось у меня. Я попыталась выбраться, дёрнув рукой и всем телом, но это было как пытаться сдвинуть скалу. Его хватка была неумолимой скалой. – Отстань от меня, Джеймс! Слышишь? Отвали!
– Нет, – одно слово. Простое. Твёрдое. Как удар молота по наковальне. Оно повисло в холодном воздухе. Его глаза, такие голубые и такие тёмные, почти чёрные в полумраке, впивались в меня, сканируя каждую деталь: бледность, которую не скрыть, заплаканные глаза, тени под ними, следы измождения, искажённое яростью и страхом лицо. В них пылала неистовая, первобытная решимость. – Я не могу без тебя.
– После того, что ты сказал?! – Я зашипела, злость поднималась горячей волной, выжигая остатки страха. – После «ничего не значило»?! После того, как ты… как ты выбросил меня?! Пусти, или я закричу!
Я рванулась изо всех сил, чувствуя, как адреналин яростной волной бьет в виски. И в этом слепом порыве ярости и унижения, не думая ни о чем, кроме жгучей потребности причинить боль, отвела свободную руку и ударила его что есть сил.
Пощёчина прозвучала оглушительно – сухой, резкий хлопок, разорвавший кладбищенскую тишину. Боль жгучей волной отдалась в моей ладони, запястье, плече, будто я ударила не по плоти, а по камню.
Он даже не пошатнулся. Не моргнул. Не отвёл взгляда. На его левой скуле, освещённой косым лучом фонаря, медленно проступало алое пятно – чёткий, почти идеальный отпечаток моих пальцев, контрастирующий с тёмной щетиной. Он не сжал мою руку сильнее, не ответил агрессией. Просто стоял и смотрел. И в его взгляде, всегда таком нечитаемом и закрытом, теперь не было ни гнева, ни ожидаемого презрения.
Была только боль. Голая, неприкрытая, первобытная боль, словно я ударила не по лицу, а в самое нутро, вскрыла рану, которую он так тщательно скрывал. И глубокая, всепоглощающая усталость, которая казалась старше его лет, старше этих могил вокруг. В этом молчании, в этом взгляде было больше силы и правды, чем во всех его прежних железных словах и ледяных масках.
– Я знаю, что сказал, – каждое его слово падало, как камень, резало воздух холодной сталью правды. – Это была ложь. Трусливая. Подлая. Ничтожная.
Он сделал шаг ближе, сократив и без того крошечную дистанцию между нами. Его дыхание, пахнущее табаком, холодом и чем-то горьким, как полынь, коснулось моего лба. Его хватка на моей руке не ослабла, но её характер изменился – это была уже не ловушка, не капкан, а… якорь. Отчаянная попытка удержать тонущее судно. Последняя точка опоры.
– Я не могу без тебя, Ева. Без твоего присутствия в том каменном гробу. Без твоего взгляда, который видит… слишком много. Вернись. К работе. К Псалтырю. Помоги мне его спасти. Это… это единственный шанс. Для книги. Для меня. – Он не просил прощения снова. Не умолял о любви, о близости. Он говорил о деле. О необходимости. О выживании. Но в его глазах, в этой сдавленной, хриплой интонации, в дрожи, которую я почувствовала в его пальцах, сжимавших моё предплечье, читалось неизмеримо больше, чем в тысяче извинений. Это было признание в абсолютной зависимости.
Слёзы, копившиеся дни, недели, сжатые в тугой ком страха и стыда, внезапно хлынули. Он видел мой позор, мою слабость, мою сломленность – и всё равно пришёл. Потому что нуждался. Как в воздухе. Как в последней соломинке. И эта его нужда, столь же унизительная, как и моя, странным образом уравнивала нас в этой пропасти.
– Ты назвал меня ничем… – прошептала я. – Ты… ты использовал меня и выбросил… как вещь, которой стыдишься…
– И я был слеп, – он сказал резко, почти зло, но злость была направлена внутрь себя. – Слеп и глуп до саморазрушения. Ты – единственная, кто может спасти то, что важно. Вернись. Ради Псалтыря. Ради… нас. Ради шанса выбраться из этой ямы. – Его голос дрогнул на последнем слове, и он опустил голову, словко не в силах больше выдерживать тяжести своего признания. Его пальцы разжали мою руку, но не отпустили её полностью, лишь ослабили хватку, давая мне выбор – отступить или остаться. В этом жесте была вся его уязвимость, вся надежда и весь страх – страх снова оказаться в одиночестве перед лицом неминуемого краха.
Он осторожно, почти нерешительно, поднял свободную руку. Его пальцы, тёплые и немного шершавые, коснулись моей щеки, смахнули слезу большим пальцем. Прикосновение было неожиданно нежным, почти робким, и оно обожгло сильнее, чем его хватка.
– Помоги мне пережить это. Помоги нам выжить. Пожалуйста.
Я смотрела на него. На его измученное, властное, невероятно привлекательное в своей опасности лицо. На след моей пощёчины – клеймо моего гнева и его вины. На боль в его глазах, так похожую на мою боль. Жалость к нему, к его тонущему миру, к его одиночеству перед лицом Тейлора, смешалась с моей собственной, извечной потребностью в искуплении. Спасти Псалтырь. Спасти этот шедевр от гибели. Хотя бы это. Хотя бы попытаться сделать что-то правое в этом море неправильного. Возможно, это и есть мой путь? Не к нему. К спасению того, что можно спасти.
– Хорошо, – выдохнула я. Слёзы текли, но решение кристаллизовалось внутри. – Я вернусь завтра к работе.
На его лице мелькнуло что-то вроде стремительного облегчения, почти невесомого, но тут же сменённого привычной, ледяной сдержанностью. Его пальцы на моей щеке опустились. Но я не закончила.
– Но только к работе, Джеймс. Ничего больше. Я не могу быть с тобой. Не так. Не после… после той ночи. Не после твоих слов. – Я сделала глубокий вдох, ощущая, как его пальцы на моём предплечье слегка сжались. – И у меня есть условия.
Он не отвёл взгляда, не перебил. Он ждал.
– Я езжу домой сама, – начала я чётко. – Без Маркуса. Без твоих людей, следящих за мной, как за преступницей. Я сама сажусь в автобус или вызываю такси. Моя личная жизнь вне твоих стен тебя не касается. – Пауза. Второе условие было сложнее. – И… я буду видеться с Адамом. Когда захочу. Он мой друг. Единственный, кто был рядом, когда… когда мне было плохо. Никаких ограничений. Никаких вопросов.
Имя «Адам» прозвучало в тишине аллеи как вызов. Как красная тряпка для быка. Я увидела, как мгновенно сузились его зрачки, как напряглись скулы, выдавая сжатые зубы. Как вспыхнул в его глазах знакомый, дикий, первобытный огонь ревности. Властная маска треснула, обнажив опасного, раненого зверя.
– Этот… мальчишка? Этот ничтожный архитектор с его дешёвыми шутками и бумажными замками? Он тебе что, Ева? Утешение? Замена? Ты думаешь, он понимает хоть что-то? Понимает темноту, через которую мы идём? Понимает цену ошибки? Цену выживания? – Он сделал шаг вперёд, его лицо склонилось к моему, дыхание стало горячим и резким. – Он – ребёнок, играющий в куличики, рядом с нашим кровавым полем боя! Он не для тебя! Он никогда не поймёт тебя по-настоящему!
Его слова, его унижение Адама – человека, который просто протянул руку, когда я тонула, – обожгли меня чистой, праведной яростью. Она придала сил.
– Заткнись! – Мой крик, резкий и громкий, заставил его вздрогнуть и отшатнуться на полшага. Я воспользовалась моментом, дёрнула руку – и на этот раз его ослабевшая хватка разомкнулась. – Не смей о нём так говорить! Никогда! Не смей! Он был рядом, Джеймс! Он пришёл, когда мне было хуже некуда! Когда ты…
Я сглотнула ком в горле, не произнося вслух унижение.
– Адам – хороший человек. И он мой друг. Самый настоящий. Ты либо принимаешь это, либо… – Я выпрямилась во весь рост, смотря ему прямо в его потемневшие глаза, – …либо я не возвращаюсь. Вообще. Ни завтра, ни когда-либо. Выбирай. Сейчас.
Мы стояли лицом к лицу посреди осеннего кладбища, в круге жёлтого фонарного света, как два дуэлянта на пороге смертельной схватки. Ярость, ревность и невероятная боль бушевали в его глазах, отражая бурю, что клокотала внутри. Его пальцы сжались в бессильные кулаки, челюсть напряглась до хруста, и на мгновение мне показалось, что он вот-вот взорвётся – начнёт давить, угрожать, вернёт Маркуса и свои железные правила, заковав меня в привычные оковы.
Но он посмотрел на меня. По-настоящему. Увидел мои глаза, полные неожиданной для него решимости и нового огня – огня защиты, а не покорности. Увидел следы слёз, блестевшие на щеках в холодном свете фонаря, как дороги, проложенные болью. И что-то в нём надломилось – не власть, а то самое глубинное сопротивление, что всегда отгораживало его от мира. Он понял – это не торг. Это ультиматум. И на этот раз условия диктую я.
Он резко, с силой выдохнул, будто выталкивая из себя яд накопленной ярости и отчаяния. Отвернулся на мгновение, уставившись в темноту аллеи, где уже сгущалась ночь, поглощая очертания могил и деревьев. Плечи его под тяжёлым пальто напряглись, выпрямились, а затем опали – сломленные, побеждённые. Когда он повернулся обратно, в его глазах не было ничего, кроме выстраданной, унизительной для его гордыни уступки. Это было глубочайшее поражение, принятое молча.
– Хорошо, – произнёс он сквозь сжатые зубы, и слово давилось, вырывалось с мукой, как признание собственного бессилия. – Без Маркуса. Без слежки. Ты ездишь сама. Куда хочешь. Когда хочешь.
Он не добавил ничего больше. Не потребовал гарантий. Не попытался взять что-то в обмен. Просто стоял, опустошённый, отдавший последний козырь, и в этой его сломленности было что-то более пугающее и значимое, чем во всех прежних проявлениях силы.
Пауза. Он заставил себя сделать ещё один шаг. Глубже вдох.
– И видишься с этим… с Харрисом. – Он не смог произнести имя «Адам» без привкуса яда, но смягчил тон, приняв неизбежное. – Но работа – прежде всего. Твои мысли, твои руки, твоё время в стенах особняка – принадлежат Псалтырю.
Это была не победа. Это была капитуляция, вырванная с боем. Его каменное лицо, его сжатые до побеления костяшек кулаки выдавали, какую цену ему приходится платить за каждую из этих уступок. Но он согласился. Ради Псалтыря. Ради призрачного шанса. Ради… меня?
Я кивнула. Один раз. Коротко. Без тени радости или торжества – лишь тяжёлая, всепоглощающая усталость и ледяное осознание, что впереди не мир, а новое, хрупкое перемирие. Новая, ещё более изощренная битва. Битва за Псалтырь, за его спасение от Тейлора, за каждую строку, каждую букву, что должна будет ожить под моими пальцами. И – за свои собственные, только что очерченные границы, внутри его каменной вселенной. За право делать вдох, не отравленный сладковатым ядом его тотального контроля.
– Завтра, – сказала я тихо, но чётко, вкладывая в слово всю свою решимость. – В девять. Я буду.
Я развернулась и пошла к выходу, к огням ожидающей меня на улице остановки, не оглядываясь. Я чувствовала его взгляд на своей спине – тяжёлый, властный, полный неутолённой ревности, вымученного согласия и чего-то ещё… чего-то, что с трудом поддавалось определению, но могло быть похоже на уважение. Или на начало новой, опасной игры с непредсказуемыми правилами.
Перемирие было заключено. Хрупкое. На моих условиях. Но война – за Псалтырь, за его спасение, за его душу и за мою свободу – только начиналась. Пыль на кладбище медленно оседала на могильные цветы и холодный камень. Пыль нашей войны лишь поднялась в воздух, готовая закружить нас в новом вихре страсти, боли и отчаянной, безумной надежды.
Глава 15: Первый Шаг на Расколотом Льду
Свинцовое утро придавило город к промокшему асфальту, и воздух в автобусе, медленно поднимавшемся к холму Кленси, стал спёртым, пропитанным запахом мокрой шерсти и глубокой, почти осязаемой усталостью пассажиров. Свобода передвижения, которую я так яростно вырвала вчера на кладбищенских аллеях, ощущалась теперь не как торжество, а как опасный шаг по тонкому, уже трещащему льду. Каждый случайный взгляд попутчика, каждый скрип сиденья заставлял меня вздрагивать и возвращал к воспоминаниям – к его решительным шагам по гравию, к железной хватке его руки на моём предплечье, к тому немому диалогу взглядов в свете фонаря.
Особняк Диаса вырос из утреннего тумана словно неприступная крепость, его острые шпили впивались в низкое небо. Чугунные ворота разъехались с неохотным, скрипучим скрежетом, будто нехотя пропуская меня внутрь. Дворецкий, безупречный в своей мрачной выправке, принял моё пальто, и его взгляд, обычно скользящий мимо, на этот раз задержался на моём лице – чуть дольше, чуть пристальнее обычного. В этом молчаливом внимании читалось всё: знание, недоумение и даже тень чего-то, что могло бы быть… сочувствием? Или предупреждением. Это был безмолвный жест, эхом уходящий в холодные, безлюдные коридоры особняка.
Мои шаги по холодному мрамору гулким эхом отдавались в звенящей пустоте холла. Они не несли ни триумфа, ни облегчения – только ледяную тяжесть тревожного ожидания и глухой, назойливый стыд, пульсирующий где-то глубоко под рёбрами. Каждый звук, каждый взгляд здесь напоминал о битве, что только началась. О перемирии, купленном ценой его унижения и моей гордости. И о войне, что ждала своего часа за следующей дверью.
Библиотека встретила меня знакомым дыханием – пылью веков, кожей переплетов и воском полированных столешниц, но в этом воздухе витала острая, почти физическая пустота. Присутствие хозяина ощущалось лишь как напряженная тишина между высоких стеллажей. Воздух стоял неподвижный, густой, будто заряженный невысказанными словами и незавершенным противостоянием.
Псалтырь лежал на моём столе под бархатным покрывалом, а рабочее место сияло стерильным, почти хирургическим порядком. Ни пылинки, ни намёка на хаос. Словно и не было ни моего побега, ни его унизительной мольбы среди могил. Словно время отмотали назад, к моменту до взрыва.
Я медленно подошла, чувствуя, как предательски дрожат кончики пальцев – не перед древним текстом, а в напряжённом ожидании его. Память тела кричала о прикосновении его пальцев к щеке, о жгучем следе моей ладони на его скуле. Я натянула перчатки, и тонкий хлопок внезапно показался грубым, лишь жалкой попыткой отгородиться от мира, что уже успел прожечь мне кожу.
Он вошёл бесшумно, но сегодня его появление грянуло для меня как удар гонга в гробовой тишине. Джеймс Диас. Безупречный. Выточенный из льда и гранита в тёмно-сером костюме. Ни щетины, ни следов вчерашней битвы – только идеальная, отполированная маска. Его глаза сияли холодным блеском отполированной стали – ни боли, ни уязвимости, лишь абсолютный, бездушный контроль.
Он остановился у своего стола, ровно в пяти метрах. Дистанция, рассчитанная до миллиметра – достаточно для формальности, но достаточно близко, чтобы его властная аура давила на каждый позвонок, напоминая: перемирие – не мир. А война лишь затаила дыхание.
– Мисс Гарсия, – его голос прозвучал ровно, бархатисто-холодно, без единой ноты вчерашней хрипоты или того сломленного шёпота среди могил. – Псалтырь ожидает продолжения работы. Вы остановились на странице двадцать четыре. Микронадрывы в миниатюре Святого Марка требуют немедленного внимания. Отчёт и план реставрации – к шестнадцати ноль-ноль. Тейлор запросил обновление информации.
Каждое слово было отточенным лезвием, восстанавливающим привычные границы. Мисс Гарсия. Не Ева. Никаких намёков на кладбищенские сумерки, на мои слёзы или его признание. Только дело, сроки и давление Тейлора.
Я отвернулась к Псалтырю и медленно, почти ритуально, сняла бархатное покрывало. Древний пергамент предстал передо мной – хрупкий, израненный временем и человеческим небрежением, безмолвно вверяющий себя моим рукам. Я выбрала самую тонкую кисть, её кончик казался невесомым, почти неосязаемым. Пальцы слегка дрожали – отзвук нервного напряжения, химической ломки, всё еще тлеющей в тканях, и от его незримого взгляда, впивающегося в мою спину.
Не сейчас. Не при нём, – пронеслось в голове суровой, единственно верной командой.
Я сделала глубокий, беззвучный вдох, погружая всё сознание в крошечную вселенную под мощной лупой. Мир мгновенно сузился до мельчайших волокон пергамента, до осыпавшегося пигмента лазурита, до тончайшей паутины трещин. Дрожь отступила, смытая волной знакомой, почти хирургической сосредоточенности. Это был мой кокон, мой надёжный щит – единственное, что он по-настоящему уважал во мне. Профессионализм. Непоколебимость руки.
Мой взгляд случайно скользнул к краю стола, где лежало деревянное крыло ангела. Оно оставалось на том же месте, где я оставила его перед своим бегством, – немой свидетель того странного, почти нереального жеста, короткого проблеска чего-то человеческого в ледяной пустыне его души. Напоминание о том, что даже сломанное может обрести иную форму, иную ценность. Я не тронула его. Просто позволила его присутствию быть – тихим укором и тихой надеждой одновременно.
Я не повернулась к нему, но взяла крыло и переложила его чуть в сторону, на свою личную территорию стола, словно давая молчаливый ответ: «Я помню. И я здесь. На своих условиях».
Из глубины комнаты послышался едва уловимый сдвиг воздуха – почти незримое движение. Как будто он тоже сделал шаг – не физический, а глубоко внутренний. Это было негласное признание и принятие очерченной мной границы.
Я вернулась к работе. Первый шаг по расколотому льду нового, хрупкого перемирия был сделан. Он – сохранив свою властную маску. Я – чётко очертив свои границы. Псалтырь лежал между нами, выступая хрупким залогом нашего болезненного союза, а тень Тейлора, невидимая, но осязаемая, неумолимо напоминала о том, что время истекает.
В шестнадцать ноль-ноль отчёт лежал на краю его стола – сухой, техничный, совершенно безупречный, как и требовалось.
Через два часа я заканчивала упаковывать инструменты. Библиотека была пуста. Он давно ушёл, но отчёт так и остался лежать на столе, ровно на том же месте, где я его оставила – неприкосновенный, демонстративно проигнорированный. Это было крошечное, но вопиющее нарушение его обычно безупречного ритуала.
Тишина после его ухода казалась почти мирной, но оставалась зыбкой. Я подошла к окну. За толстым стеклом тяжёлые, разорванные тучи медленно проплывали над городом, открывая клочки холодного, бледного неба. Дождя не было, только сырой, пронизывающий ветер гнал по мокрому асфальту последние опавшие листья. Свинцовые тучи низко нависли, но казалось, весь город затаил дыхание в этом хрупком перемирии стихий.
Сумка была готова. Я надела пальто, поправила капюшон. Один последний взгляд на стол: на Псалтырь под шелковым покрывалом, на крыло ангела – мой маленький мир в его огромной империи, и на забытый отчёт.
Сначала кольнула острая обида: неужели моя работа ничего не стоит? Но затем пришло холодное, острое удовлетворение. Он не смог. Не смог сохранить лицо до конца. Этот забытый отчёт был трещиной в его идеальной броне контроля, молчаливым признанием того, что вчерашнее – кладбище, пощёчина, мой побег – всё это было реальностью. И это выбило его из колеи.
Первый день после битвы завершился. Война продолжалась, но этот важный рубеж был удержан. Лёд под ногами пока выдерживал, но дал первую тонкую трещину не только под моими шагами, но и под его маской.
Я вышла из библиотеки, плотно закрыв за собой дверь. Холл был пуст. Мои шаги по мрамору гулким эхом отдавались в тишине. Дворецкий безмолвно вручил мне пальто.
Вдалеке, у ворот, уже ждало такси – ещё одно напоминание о новых правилах и о моей обретённой свободе. Холодный воздух без дождя был чистым и резким, как горькая правда, которую мы оба теперь знали.
Глава 16: Пьяный Ураган
Следующий день начался так же, как закончился предыдущий: я вновь проделала знакомый путь в особняк Диаса, снова прошла сквозь холодные, безмолвные коридоры под немым, оценивающим взглядом дворецкого. Библиотека встретила меня той же абсолютной тишиной и знакомым запахом древней бумаги, а Псалтырь покорно ждал на столе, укрытый шёлком. Крыло ангела, лежащее на своём месте, оставалось немым свидетелем моего присутствия, напоминая о вчерашнем дне.
Работа продвигалась медленнее, чем накануне; мысли постоянно цеплялись за недавние воспоминания о дожде, о такси, о ледяной пустоте холла. Особенно тревожило и одновременно приносило облегчение его отсутствие – Диас до сих пор не появился. Я чувствовала, что за стенами этого каменного гроба зреет что-то тяжёлое и потенциально опасное.
Я заканчивала кропотливую и сложную консолидацию крошечного фрагмента миниатюры, когда вдруг почувствовала, как неуловимо изменилась тишина в библиотеке: она стала плотнее, заряженной, словно предвещая нечто важное, задолго до того, как меня действительно потревожили.
Дверь библиотеки распахнулась с непривычной, резкой силой, вздрогнув в раме и заставив дребезжать стёкла витрин. На пороге стоял Джеймс, но это был совершенно не тот безупречный хозяин крепости, которого я видела утром прошлого дня. Он был в расстёгнутых на животе чёрных брюках, а его голый торс блестел то ли от пота, то ли, что вероятнее, от влаги в воздухе. В одной руке он сжимал почти пустой бокал с тёмно-рубиновым остатком виски. Его волосы были растрёпаны, а взгляд – мутным, плавающим, но в его глубине, за алкогольной пеленой, бушевал дикий, совершенно неконтролируемый огонь. Запах дорогого алкоголя, смешанный с потом и чем-то горьким, отчаянным, резко ударил в нос, перебивая привычные запахи библиотеки.
– Га-арсия! – его голос прорвался сквозь тишину библиотеки, хриплый, неестественно громкий, словно слова спотыкались друг о друга. – Отчёт! Где мой чёртов отчёт?!
Он шагнул внутрь, пошатнулся и прислонился к косяку, с трудом фокусируя мутный взгляд на мне. Затем его глаза, блуждающие и неспокойные, скользнули по столам, пока не наткнулись на вчерашнюю папку, всё ещё лежавшую на краю его стола – немой упрёк, свидетельство его вчерашнего сбоя.
– А, вот же он. Безупречен, как всегда. – Он неуклюже махнул рукой со стаканом, и последние капли рубиновой жидкости широкими брызгами пролились на дорогой ковёр, впитываясь в темную шерсть. – Послушная девочка. Точно по инструкции… для него.
Диас оттолкнулся от косяка и сделал несколько шагов к своему столу, но, не дойдя, резко свернул в мою сторону, словно его потянуло магнитом. Его взгляд, затуманенный, но невероятно острый, впился в меня с болезненной, исследующей интенсивностью.
– Тейлор… – он фыркнул, и его губы исказились в гримасе глубочайшего, физиологического презрения. – Продажная тварь в дорогом костюме. Воображает, что дёргает за ниточки? Воображает, что от него что-то зависит? Он только пачкает. Всё, к чему прикасается… превращает в прах… в пыль…
Он оказался слишком близко. Запах выдержанного виски, острого пота и чего-то горького, отчаянного, смешался с его обычным дорогим парфюмом, создавая удушающую ауру. Диас протянул свободную руку, пальцы которой заметно дрожали, намереваясь коснуться моей щеки.
– Ты… ты не из этой пыли… Ты чистая точка… среди… – его дыхание хрипело, сбивалось.
Я резко отшатнулась, спина упёрлась в край стола.
– Не прикасайтесь ко мне, мистер Диас. Вы пьяны.
Он замер, его рука повисла в воздухе. Пламя в его глазах вспыхнуло обидой, затем мгновенной, всесжигающей яростью, но так же быстро погасло, сменившись внезапной, почти жалкой растерянностью. Он опустил руку, словно она вдруг стала неподъёмной.
– Пьян… Да, пьян… – он горько усмехнулся, и в этом звуке послышался хруст ломающегося стекла. – А что ещё делать? Смотреть, как он всё губит? Смотреть, как ты…
Он не договорил, резко, почти грубо отвернулся и тяжело рухнул в ближайшее кожаное кресло. Стакан соскользнул с его расслабленных пальцев на ковёр, мягко глухо покатившись по ворсу. Диас достал из кармана брюк потёртый серебряный портсигар, с трудом открыл его. Руки тряслись так, что он трижды чиркнул зажигалкой, прежде чем дрожащее пламя лизнуло кончик сигареты. Он затянулся глубоко, запрокинув голову на спинку кресла, и медленно выпустил струю едкого дыма к потолку, где она расплылась призрачным пятном.