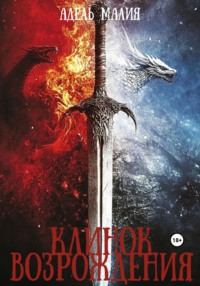Полная версия
Падение в твою Пустоту
От этой мысли стало физически дурно. Горло сжал спазм, и я чуть не споткнулась, вцепившись пальцами в холодную мраморную стену, чтобы не упасть.
Нет. Беги. Просто беги.
Мысль о том, что он мог спланировать это унижение, что моя боль, мое замешательство, моя отчаянная ответная ярость были им предусмотрены, как следующий ход в его дьявольской игре… это превращало меня не просто в использованную вещь, а в жалкую, предсказуемую пешку на его доске. Пешку, которую можно без сожаления смахнуть, когда она выполнила свою жалкую функцию.
Это придало моим ногам новую, паническую скорость. Я мчалась, не разбирая пути, лишь бы подальше от этого каменного чудовища, от его ледяных глаз, от его тотального, всепроникающего контроля. Он отпустил Маркуса. Он знал. Он хотел этого. И он выбросил меня, как использованную салфетку. Его слова теперь звучали как окончательный приговор не только этому вечеру, но и всей моей ценности в его глазах. Нулевой. Ниже нуля.
Массивная входная дверь поддалась с тяжелым скрипом, будто нехотя выпуская свою жертву. Я выскочила под проливной, ледяной дождь. Он хлестал по лицу, смешиваясь с горячими, наконец прорвавшимися слезами, смывая с губ привкус его виски и пепла. Я бежала вниз по мокрой подъездной аллее, не оглядываясь на мрачный силуэт особняка, спотыкаясь о скользкие камни, не чувствуя холода, только всепоглощающий стыд, горечь и жгучую, убийственную уверенность: я была проклята. Даже в огне страсти я смогла лишь сжечь себя дотла, оставив после себя только пепел и ледяное презрение в его глазах – презрение, которое он, без сомнения, запланировал. Дождь смывал с меня его запах, его прикосновения, но не мог смыть клеймо и страшную догадку о предумышленности моего падения. Я бежала в серую мглу заката, разбитая, использованная, обманутая в последней, самой потаенной надежде, окончательно подтверждая: я – Ева Гарсия. Трехкратная убийца. И мое прикосновение, даже вожделенное, губит все, превращая даже страсть в расчетливый акт уничтожения.
Глава 13: Пыль на Алтаре
Солнце. Оно врывалось в мою крохотную мансарду с безжалостной, хирургической точностью, выжигая каждый уголок. Эти лучи, острые как лезвие, не оставляли никакого убежища – они обнажали каждую пылинку, пляшущую в воздухе, каждую трещинку на выцветшем паркете, каждую частицу былого стыда, осевшую в складках простыней. Они прожигали тонкие шторы и выжигали невидимые следы той ночи прямо на коже – будто та была пергаментом, а его прикосновения – ядовитыми чернилами.
Запах.
Он въелся во всё – в штукатурку стен, в волосы, в поры кожи. Эта невозможная смесь выдержанного виски, старой кожи с кресел его библиотеки и чего-то глубоко личного, дикого, что было просто им – его телом, его потом, его гневом и его властью. Он висел в спёртом, неподвижном воздухе, смешиваясь с пылью и вековой затхлостью, создавая удушливый кокон, из которого не было выхода.
Я стояла под ледяными струями душа часами, скребла кожу жёсткой мочалкой до кровавых полос, до красноты, до боли – но ничего не помогало. Фантомные ожоги его рук не смывались. Они горели под кожей, как клеймо.
Его руки – не только грубые, сдирающие всё на своём пути, но и… отчаянно желанные тогда. Его губы – не только кусающие, оставляющие синяки-напоминания, но и зовущие, обещавшие то самое забвение, в котором я так отчаянно нуждалась. Его вес – не только давящий гнёт, но и… невыносимо полная пустота, заполнившая на миг всё нутро, всю ту пропасть, что я годами носила внутри.
И его голос.
Тот самый.
Он звучал теперь в тишине моей квартиры громче любого крика – ледяной, отполированный до зеркального блеска бесстрастия, но несущий в себе отсвет того пламени, что спалил нас дотла. И этот голос, и эти воспоминания были теперь частью меня – как дыхание, как шрам, как приговор, от которого не отмыться.
«Это ничего не значило».
Эти слова, раскалённые докрасна, впивались в сознание снова и снова, выжигая на самой глубине души правду, что была страшнее любой лжи: я хотела этого. В тот миг, в том слепом безумии – я жаждала этого. Я отдалась ему не из страха перед его силой, не подчиняясь его воле, а в едином, всепоглощающем пожаре боли и какого-то порочного, извращённого понимания, что вдруг возникло между нами. Я ответила на его голод – своим собственным. А он назвал это ничем.
Одним движением, одной фразой он подтвердил самую страшную мою догадку о себе: я – испорченная вещь. Грязь, к которой можно прикоснуться в миг слабости и тут же отшвырнуть, с брезгливостью вытирая руки.
Дни слиплись в серую, вязкую массу. Я не выходила. Телефон, брошенный на кухонный стол, безмолвствовал, и эта тишина была оглушительнее любого крика. Архив? Сама мысль о возвращении туда вызывала приступ тошноты. Пыль старинных фолиантов, терпкий запах пергамента, гулкая, давящая тишина – всё было отравлено, всё напоминало его каменную тюрьму, его библиотеку, его всепроникающий холод. Я сидела на полу, прислонившись спиной к ледяной батарее, и часами следила, как пылинки медленно танцуют в косых лучах солнца. Словно пепел. Пепел того, что сгорело во мне дотла.
Перед глазами вставали три образа, сменяя друг друга в бесконечном, изматывающем цикле: его глаза – дикий синий огонь в полумраке библиотеки; его руки на страницах Псалтыря – уверенные, властные, знающие цену красоте; и те же самые глаза после нашей близости – пустые, стеклянные, смотрящие сквозь меня, словно я была призраком, пятном на стене, частью интерьера, которую не замечают.
Еда вызывала тошноту, подступающую горьким комком к самому горлу. Вода, которую я пыталась глотать маленькими глотками, отдавала на языке пеплом и казалась такой же мертвой, как всё вокруг. Я существовала в состоянии непрерывной, изматывающей вибрации – тонкой дрожи, сплетенной из стыда и клокочущей, бесполезной ненависти. Ненависти к нему – за его безжалостность, к себе – за ту слабость, что обернулась позорным согласием. И над всем этим – животный, первобытный страх: вот-вот в дверь раздастся стук. Появится Маркус с каменным лицом. И начнется новый акт унижения, новый контракт, новое, еще более тесное заточение.
И в этот миг зазвонил телефон.
Я вздрогнула так сильно, что затылок с глухим стуком ударился о холодный металл батареи. Звонок был настойчивым, требовательным, чужим. Не та изысканная, холодная мелодия, что была у него. Адам. Имя вспыхнуло в сознании – болезненный, яркий укол нормальности. Укол той жизни, что была до. Жизни, которая теперь казалась чужим, неправдоподобным сном. Рука предательски дрожала, поднося холодный корпус телефона к уху.
– Ева? Ты жива? – его встревоженный голос ворвался в мой оцепеневший, затхлый мир, как порыв свежего, холодного ветра в склеп. – Ты молчишь уже три дня! Звонил, писал в мессенджеры… Тишина. Что случилось?
Ком в горле затвердел, стал тяжелым и непроходимым, как булыжник.
– Ева? Ты там? – тревога в его голосе нарастала, становясь острой, почти панической. – Если ты сейчас же не ответишь, я еду к тебе. Сиди дома.
– Не… – выдавила я, и мой голос прозвучал хрипло, чуть громше шепота, но все равно чужо. – Не надо, Адам. Я… я не в порядке. Грипп, кажется. Сильный.
Ложь. Гнусная, жалкая, прозрачная, как стекло. Но что я могла сказать? Я переспала с клиентом, своим тюремщиком, нарушив все мыслимые профессиональные и человеческие границы, а он растоптал меня, назвав ничем, и теперь я медленно разлагаюсь заживо от стыда и ненависти к самой себе?
– Грипп? В такую теплую погоду? – он не купился ни на секунду. Его голос стал тверже. Адам знал меня. Слишком хорошо.
Я молчала, сжавшись в комок, глотая слезы, которые всё же прорвались и жгли щеки.
Через двадцать минут, которые показались вечностью, телефон завибрировал снова.
– Ева, слушай меня внимательно. – Его голос в трубке был спокоен, но в этой спокойной твердости сквозил стальной стержень. – Я у твоей двери. Открывай. Я принес куриный суп. И апельсинов. Открывай, или я буду орать под дверью, пока соседи не вызовут полицию. Или пока эта дверь не окажется выбитой. Выбор за тобой.
Он пытался шутить, использовать наш старый, привычный код общения. Но его обычная, легкая, почти братская забота в этот момент обожгла меня, как раскаленное железо. Я не хотела его видеть. Боялась, что он, словно рентген, прочтет всю историю моего позора и саморазрушения на моем лице, в моих глазах. Боялась его вопросов, его прямого, ясного взгляда. Но его настойчивости, возможного шума и неминуемого внимания со стороны соседей я боялась еще больше.
Собрав последние силы, словно плетью подгоняемая этим страхом, я доплелась до двери. Повернула ключ. Щелчок замка прозвучал невыносимо громко. Дверь открылась.
Адам стоял на пороге с бумажным пакетом, от которого шел спасительный, душевный запах домашнего бульона – запах другой, нормальной жизни. Его легкая, ободряющая улыбка исчезла с лица мгновенно, сменившись выражением неприкрытого, ошеломленного шока.
– Господи… Ева.
Он вошел внутрь, не дожидаясь приглашения, и тут же, почти рефлекторно, запер за собой дверь. Его взгляд – быстрый, цепкий, профессиональный – сканировал меня, как врач осматривает пострадавшего в катастрофе: мертвенная бледность, глубокие, черные провалы под глазами, взъерошенные, немытые волосы, мой старый, растянутый свитер, в котором я пряталась, как в коконе. Его взгляд скользнул по комнате и замер на шелковой блузке, небрежно сброшенной в угол в ту ночь.
– Ты выглядишь… Что он с тобой сделал? Этот твой клиент? – его голос был тихим, но в нем клокотала ярость, едва сдерживаемая тревогой.
Он.
Не имя. Не фамилия. Просто «он». Тот, кто украл его подругу, разрушил ее привычную жизнь, оградил стеной молчания и контрактов. Тот, из-за кого она исчезла.
Слезы, которые я так долго сдерживала, хлынули внезапно и неудержимо, с силой прорванной плотины. Я закрыла лицо руками, и мое тело содрогнулось от беззвучных, сухих, выворачивающих наизнанку рыданий. Это были слезы не от насилия. От унижения. От осознания собственного, добровольного падения.
– Я… я такая глупая, Адам… – всхлипнула я, голос срывался на шепот, пробиваясь сквозь пальцы. – Такая нелепая… жалкая…
Он не понял. Не мог понять всей глубины этого падения. Он видел только страдание и всю ярость своего сердца однозначно направил на него.
– Что он сделал?! – голос Адама зазвенел от сдержанной, холодной ярости. Он осторожно, но настойчиво взял меня за плечи, заставляя посмотреть на него. – Напугал? Угрожал? Шантажировал? Говори! Я найду этого ублюдка! Клянусь, я заставлю его ответить! Скажи хоть что-нибудь!
– НЕТ! – я вырвалась, отпрянув к стене. Паника, знакомая и леденящая, сдавила горло. Мысль о том, что прямолинейный, честный Адам полезет в этот змеиный клубок, к человеку с такими связями, к тени всемогущего Тейлора… – Не надо! Пожалуйста! Ты ничего не знаешь… Он… он опасен. Очень. Я не могу… Я не могу говорить о нем! Контракт… Там все прописано… секретность…
Я задыхалась, хватая ртом воздух, слова путались.
– Я… я сама…
Слова застряли. Как признаться в своем падении? В своем желании? В том, что я не просто позволила, а ответила? Что я хотела того самого, что теперь сжигает меня изнутри стыдом?
– Ты сама что? – Адам смотрел на меня в упор, его глаза сузились. В них промелькнули шок, гнев, а затем медленное, ужасное понимание. Его лицо исказилось отгадкой, которая была хуже любого предположения. – Ева… ты… с ним? Что-то было… между вами?
Он с трудом подбирал слова, его лицо исказилось от отвращения – не ко мне, а к самой идее, к нему.
– Он тебя использовал?
Его догадка повисла в воздухе не вопросом, а приговором. Прямым. Жестоким. И абсолютно правдивым. Я не смогла ответить. Просто кивнула, свесив голову, чувствуя, как горячие слезы капают на босые ноги и впитываются в пыль на полу. Мое молчание, мой вид, эта проклятая шелковая блузка в углу – всё кричало за меня, громче любых слов.
– О Боже… – Адам выдохнул, отшатнувшись, словно от физического удара. Он провел рукой по лицу, будто пытаясь стереть с себя картину происходящего. – Ева… Зачем? После всего, что ты рассказывала о его «правилах», его давлении, его ледяном контроле? Ты же сама говорила, он как тот самый коллекционер… из-за которого твой отец… Как ты могла пустить его так близко? Как ты могла захотеть этого?!
Его недоумение, его искренняя боль за меня, его праведный гнев – всё это било по моей истерзанной душе сильнее пощечин. Он не понимал. Не мог понять этой чёрной, губительной связи, этого магнитного притяжения к пропасти. Этой отчаянной, животной потребности быть хоть кем-то для того единственного человека, который увидел всю мою тьму – и всё равно… прикоснулся к ней. Лишь для того, чтобы отшвырнуть прочь.
– Я не знаю… – прошептала я, и голос мой звучал чужим и надтреснутым. – Не знаю, Адам. Это просто… произошло. Был… огонь. И… и что-то ещё. Тёмное. Сильное. А потом он сказал, что это ничего не значило.
Я наконец подняла на него глаза. В его взгляде не было осуждения. Только глубокая, почти беспомощная, всепонимающая жалость. И от этого горело внутри куда сильнее, чем от любого презрения.
– Он использовал тебя, Ева, – сказал Адам тихо, с убийственной, неопровержимой уверенностью. Его кулаки были сжаты так, что кости побелели, но бить было некого. – Он увидел твою уязвимость, твою боль… и нажал на все кнопки. А потом выбросил. И ты… ты из-за этого проклятого контракта не можешь даже назвать его имени, чтобы я мог…
Он бессильно махнул рукой, обрывая фразу. Воздух сгустился от невысказанной ярости и безнадёжности.
Его слова резали по живому, потому что в них была горькая правда. Использовал ли он мою боль? Мою потребность? Да. Но я позволила. Я сама пошла навстречу этому огню, ослеплённая его мнимой силой. И теперь стыд пожирал меня изнутри – перед Адамом, перед собой, перед призраком отца, который, казалось, смотрел на меня из каждого угла.
– Мне нужно уехать, – вырвалось у меня внезапно, почти истерично. Идея побега вспыхнула как единственная спасительная искра в кромешной тьме. Бежать. От него. От этого всепоглощающего позора. От города, который теперь насквозь пропитан его запахом, его властью, его призрачным присутствием в каждом переулке. – Подальше. Сейчас же. Я не могу… не могу здесь больше дышать.
Адам сделал осторожный шаг вперед, словно приближаясь к раненому зверьку, который может испугаться или укусить. Он не стал обнимать меня – его утешение было иным. Теплая, сильная рука легла поверх моей, сжатой в бессильный кулак. Простое, грубое, но настоящее прикосновение, пробивающееся сквозь ледяную скорлупу отчаяния.
– Хорошо, – произнес он твердо, и в его голосе зазвучала та самая решимость, которой мне так отчаянно не хватало. – Уезжай. Поезжай ко мне на дачу. Она сейчас пустая. Ключи я тебе привезу. Отдохни. Приди в себя. Забудь этого… этого ублюдка. – Его голос дрогнул на последнем слове, выдав всю накопившуюся ярость. – Он тебя уничтожит, Ева. А ты заслуживаешь гораздо большего.
Забыть. Как можно забыть тот всепоглощающий огонь? Как стереть из памяти лед его взгляда? Как отрицать, что я сама, без принуждения, бросилась в это пламя? Но слова о даче, о тишине, о другом месте… звучали как обещание передышки. Побег. Временное спасение от самой себя.
– Я… попробую, – прошептала я, вытирая влажное лицо грубым рукавом свитера. – Спасибо, Адам. За суп. И за… за то, что пришел.
Он коротко кивнул. Беспокойство и тревога не покидали его глаз, но в них читалась непоколебимая решимость помочь.
– Я позвоню завтра, чтобы договориться о ключах. И… Ева? – он задержался в дверях, уже уходя. – Береги себя. Пожалуйста. Хоть как-нибудь.
Он ушел, и я снова осталась одна. Солнце по-прежнему безжалостно выжигало комнату, но теперь его лучи казались еще более беспощадными. Запах куриного супа, запах заботы и нормальной жизни, казался чужеродным и навязчивым в моем затхлом склепе. А в углу, на сером от пыли полу, лежала та самая шелковая блузка. Пыль медленно оседала на темную ткань, пытаясь укрыть, похоронить улику. Но я-то знала: под этим слоем – следы его рук, его губ, моего стыда и того дикого, запретного огня, что опалил нас обоих.
Самое страшное было то, что часть меня, та, что сгорела дотла в ту ночь, боялась, что он был прав. Что для него это и правда было ничем. И что для меня это должно было стать тем же. Мне предстояло сбежать не от него. Мне предстояло сбежать от себя самой – в пыль и тишину загородного забвения, в надежде, что тишина эта когда-нибудь станет исцелением.
Глава 14: Условия Перемирия
Два дня. Сорок восемь часов вязкого, пыльного существования, где время текло, словно загустевший клей, а воздух в квартире казался спёртым от непролитых слёз и невысказанных мыслей. Суп Адама в холодильнике покрылся сероватой плёнкой, мутным отражением моей апатии. Его настойчивые звонки вибрировали в тишине, а потом затихали, оставляя после себя ещё более гнетущую пустоту. Мысли об отъезде – на дачу Адама – витали призраком, манили иллюзией чистого листа. Но куда бежать от себя? От этой липкой паутины стыда, желания и гнева, что опутала сердце?
Порыв выйти, вдохнуть воздух, не отравленный воспоминаниями, привёл меня не в парк, не в кафе, а к чугунным воротам старого городского кладбища. Осенний воздух здесь был другим – прохладным, прозрачным, пахнущим прелой листвой, влажной землёй и вечностью. Солнце, такое яркое и безжалостное в каменных джунглях, здесь пробивалось робкими лучами сквозь плотный полог вековых дубов и клёнов, окрашивая аллеи в золото и багрянец. Тишина стояла особая, не мёртвая, а насыщенная шелестом листьев, редким карканьем ворон, далёким гулом города – фоном для вечного покоя.
У газетного киоска у самого входа мелькнул заголовок деловой газеты, броский и угрожающий:
«ДИАС ХОЛДИНГ НА ГРАНИ: ТЕЙЛОР ЗАТЯГИВАЕТ УЗЕЛ КРЕДИТОВ? Эксклюзивные источники говорят о беспрецедентном давлении и возможном отзыве ключевой кредитной линии в $50 млн!».
Рядом – его фото. Небольшое, но чёткое. Он стоял на фоне панорамного окна своего кабинета, лицо – безупречная маска хозяина вселенной, холодное и непроницаемое. Но глаза… Даже на газетной бумаге, в черно-белом зерне, они резали. Не уверенность, а стальная решимость, за которой угадывалось колоссальное напряжение, знакомый до боли блеск загнанного зверя. Те самые глаза, что были в ту ночь перед… всем.
Я машинально купила газету. Листать не стала, сунула в сумку, и она внезапно стала невыносимо тяжёлой, как гиря вины. Короткий абзац под заголовком бросался в глаза даже без чтения целиком:
«…инсайдеры подтверждают, что Уилсон Тейлор, мажоритарный кредитор, использует все рычаги, требуя немедленного погашения или уступки контроля над стратегическими активами Диаса. Особую озабоченность у Тейлора, по слухам, вызывает затягивание некоего «культурного проекта», в который вложены значительные средства и репутационные риски…»
Псалтырь. Всё рушилось. Его империя, его защита, его последний бастион против Тейлора. И моя рука, бросившая работу в критический момент, была одним из камней, сброшенных в пропасть ему вслед.
Жалость – острая, неожиданная, колющая, как игла под ребро. Он тонул. Его каменная крепость трещала по швам под натиском акул. И я, испуганная, униженная, сбежавшая, добавила веса на его плечи. Жалость смешалась с едкой горечью и жгучим стыдом. Жалеть его? После «ничего не значило»? После того, как он выставил меня жалкой, использованной вещью? Но образ его глаз – тогда, в библиотеке, пьяных и разбитых, полных немой тоски, и сейчас на фото, напряжённых до предела – не отпускал, впиваясь в сознание.
У лотка с цветами, у хрупкой старушки в платке, купила две скромные гвоздики – белую, холодную, как мрамор, для матери. Красную, как застывшая капля крови, для отца. Пыль с дороги тут же осела на бархатные лепестки, напоминая о бренности всего.
Могилы стояли рядом, под сенью старого клёна, чьи огненные листья медленно кружили в прохладном воздухе, словно оплакивая тех, кто лежал внизу.
«Мария Гарсия. Любимая жена и мать. 1979-2003. Ушла, подарив жизнь».
«Альваро Гарсия. 1974-2017. Мастер. Ушёл, унеся боль. Любимый папа».
Я опустилась на колени на холодную, влажную землю перед отцовским камнем, не обращая внимания на промокающую ткань брюк. Положила красную гвоздику и прикоснулась ладонью к шершавой, холодной поверхности гранита. Шероховатости врезались в кожу, как воспоминания.
– Прости меня, папа, – прошептала я, и голос сорвался от нахлынувших слёз. – Я всё испортила. Всё, чего ты добивался… всё, ради чего ты…
Слова застряли в горле. Ветер подхватил алый лист и мягко опустил его на могилу, будто пытаясь утешить. Где-то вдали каркнула ворона, и этот звук отозвался эхом в моей пустоте.
Я оставалась там, на холодной земле, пока солнце не начало клониться к горизонту, окрашивая небо в бледные тоскающие цвета. Поднимаясь, я почувствовала, как тяжесть на душе стала чуть меньше, словно часть боли осталась там, у подножия холодного камня, рядом с алой гвоздикой и опавшим листом.
Но я знала – это лишь передышка. Буря ещё не закончилась.
– Простите, – прошептала я. Слёзы подступили к глазам, горячие и горькие. – Простите меня. Я… я снова всё испортила. Хотела искупить твою боль, папа… хотела стать сильной, как ты учил, вернуть красоту тому, что сломано, а стала только слабее. Уязвимее. Я позволила…
Дыхание перехватило. Я перевела взгляд на белую гвоздику у материнского камня, такую же хрупкую и безмолвную, как и сама мама в моих смутных воспоминаниях.
– Я позволила ему войти туда, куда не пускала никого, – прошептала я, обращаясь к холодному камню отца. – И он… он назвал меня ничем. После всего. После той ночи… И я… поверила. Потому что это правда, да?
Слёзы текли по моим щекам, смешиваясь с пылью на граните.
– Я принесла вам смерть. Маме – просто появившись на свет. Тебе – своей глупостью, своим желанием быть ближе к тебе, понять тебя… И себе… себе я принесла только стыд и бесконечные ошибки.
Голос срывался, слова цеплялись за ком в горле.
– Теперь он… он теряет всё. Из-за Тейлора. И часть этой вины… на мне. Моя слабость. Мой побег. Что делать?
Я прижалась лбом к шершавой, холодной поверхности камня, ища в его безмолвии хоть каплю утешения, намёк на ответ.
– Бежать? Остаться и смотреть, как он рушится? Где взять силы, папа? Где?
В ответ – лишь тишина. Только ветер шелестел сухими листьями клёна, срывая их и унося в медленный, печальный танец над могилами. Где-то каркнула ворона – зловеще и одиноко. Ни ответа, ни прощения, ни укора. Только вечная пыль на камнях, на бархатных лепестках гвоздик, и леденящий холод земли, медленно проникающий в самые кости.
Я просидела так, не зная сколько, пока ноги не затекли и не онемели, а слёзы не иссякли, оставив после себя лишь пустоту и тяжёлое оцепенение. Наконец я поднялась, окоченевшая, с ощущением, будто часть души осталась лежать здесь, на холодной земле, между этими двумя камнями, навсегда прикованная к их молчанию.
Сумерки начали сгущаться быстро, окрашивая небо в густые синие и лиловые оттенки, когда я побрела обратно по главной аллее. Фонари зажглись один за другим, отбрасывая на землю жёлтые, расплывчатые круги света, в которых кружилась осенняя листва. Воздух стал ещё холоднее, пронизывающим. Я куталась в своё тонкое пальто, погруженная в тяжёлую, беспросветную думу, шаги мои были медленными и автоматическими.
И тогда, на самом повороте к выходу, где аллею обступали вековые дубы, отбрасывающие теперь длинные, причудливые тени, я увидела его.
Он стоял у одного из исполинов, прислонившись спиной к шершавой коре, закутанный в длинное чёрное пальто из тяжёлой шерсти, подчеркивающее его атлетическую фигуру – ширину плеч, узость талии. В опущенной руке – сигарета, тлеющая тусклым красным огоньком в сгущающихся сумерках, как сигнальный маячок в темноте. Он не смотрел на меня, его взгляд был устремлён куда-то вдаль, на ряды могил, но каждым нервом я ощущала – он ждал. Ждал именно меня.
Джеймс Диас.
Лицо, освещённое снизу тусклым светом ближайшего фонаря, было высечено из гранита – резкие скулы казались острее, линия сжатых губ твёрже, тени под глазами глубже и мрачнее, чем я помнила. Он не брился – тёмная щетина придавала его обычно безупречному облику опасную, почти дикую мужественность. Невероятно привлекательный в своей разрушенной силе, как уцелевший бастион после штурма, властный и непреодолимо массивный даже в этой кажущейся позе отдыха. Он смотрел прямо на меня, не мигая. Неподвижный. Как хищник, замерший в ожидании добычи на тропе. Но в его абсолютной неподвижности, в напряжённой линии плеч читалось не терпение, а колоссальное внутреннее усилие, сдерживаемая, готовая вырваться буря.
Сердце рванулось в бешеный галоп, ударившись о рёбра. Кровь прилила к лицу, потом отхлынула, оставив ледяную слабость в коленях.