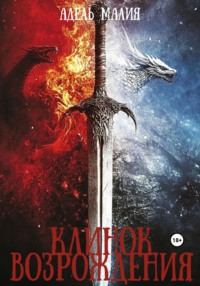Полная версия
Падение в твою Пустоту

Адель Малия
Падение в твою Пустоту
Глава 1: Отпечатки
Тишина Архива была обманчивой – густой, тяжёлой и сотканной из шелеста сотен тысяч страниц, скрипа старых переплётов под собственным весом и мерного тиканья настенных часов, отсчитывающих время, давно потерявшее значение для миров, заточенных в этих стенах. Но громче всего звучало моё собственное дыхание – осторожное и сдавленное, будто я боялась потревожить не только хрупкий пергамент под руками, но и само равновесие этого пыльного царства. И пыль… Боже, пыль была вездесущей субстанцией этого места. Мелкая и серая, как сама история, запертая в стенах из тёмного дерева и стали. Она оседала на белых хлопковых перчатках тончайшей вуалью, въедалась в линии ладоней, которые уже никогда не станут по-настоящему чистыми, и витала в строгих лучах холодного света от моей настольной лампы, превращая воздух в зыбкую материю времени. Я вдыхала её с каждым скупым вдохом, чувствуя, как мельчайшие частицы цепляются за слизистую горла, оседают где-то глубоко внутри. Как вина. Как неотвязная, въевшаяся память.
Передо мной, закреплённый в мягкие держатели из микропоры, лежал пациент: «Хроники Михаила», XVI век. Переплёт из когда-то роскошной, а ныне потрескавшейся и утратившей блеск телячьей кожи, страницы, пожелтевшие не только от времени, но и от небрежного хранения где-то в сыром подвале. Чернильные росчерки поблекли, корешок едва держал блок, а по краям форзацев ползла безжалостная паутина рыжеватых пятен плесени. Моя задача – укрепить корешок невидимыми бумажными шпонками, аккуратно подклеить отходящие форзацы и вывести пятна специальным гелем на основе целлюлазы, не повредив хрупкую структуру бумаги. Это была ювелирная работа, где инструментами служили терпение, микроскопические дозы клея и абсолютная неподвижность руки. Работа искупления. Каждая спасённая страница – крошечный камешек, брошенный в бездонный колодец моей вины.
Я винила себя в смерти матери, умершей, рожая меня. Эта мысль всплывала сама собой, как всегда, когда кончики пальцев в перчатках прикасались к чему-то беззащитному перед временем. Отец никогда не произносил этих слов вслух, но я знала: видела это в его глазах – в той мгновенной тени, что ложилась на его лицо в дни моих именин, в том, как его взгляд иногда скользил по мне, не видя меня, а видя пустоту, которую я оставила. Я была его живым напоминанием о невосполнимой потере, его проклятием и его единственным светом, слитыми воедино. А потом… потом я чувствовала себя причиной его гибели. Дважды «виновная». Испорченная вещь, несущая разрушение всему, к чему прикасается.
Я смочила тончайшую кисточку в дистиллированной воде, аккуратно удалив излишки о промокашку, и моё сердце замерло: сейчас одно неверное движение, чуть сильнее нажим, малейшая дрожь в пальцах – и крошечный фрагмент осыпающегося золотого обреза на краю страницы превратится в горсть бесполезной позолоты. Золото здесь – всего лишь пигмент, иллюзия прочности и вечности, как и всё в этом мире; одно мгновение небрежности – и частица истории, чья-то боль, молитва или любовь, запечатлённая здесь столетия назад, рассыплется в пыль навсегда. Как карьера отца и его репутация рассыпались на той проклятой выставке «Книги и Манускрипты», когда краснолицый коллекционер Тернер орал на него, тыча толстым пальцем в едва заметный надрыв на миниатюре Псалтыря, а все вокруг – коллеги, конкуренты, просто зеваки – смотрели со смесью ужаса и презрительного любопытства… А я, четырнадцатилетняя, глупая, переполненная гордостью за его работу и желанием разделить её красоту, неосторожно прислонилась к нему, желая что-то рассмотреть, и случайно толкнула его локтем. Его рука дрогнула. Микроскопическое движение. Но для Тернера этого было достаточно. Крик: «Несчастный! Бездарь! Ты погубил шедевр!» И лицо отца… Оно стало пепельным. Пустым. В нём не осталось ничего, кроме стыда и обречённости.
– Гарсия!
Голос Сьюзен Брайт, заведующей архивным отделом, прорезал тишину зала. Я вздрогнула так сильно, что кисточка выскользнула из пальцев, упав плашмя на открытую страницу. Сердце бешено заколотилось, выпрыгивая из груди, в горле встал комок знакомого до тошноты ужаса. Ошибка, уже ошибка, я испортила! Кровь отхлынула от лица, оставив щёки ледяными. Я замерла, боясь пошевелиться и боясь увидеть след.
Сьюзен вошла в зал, её взгляд тут же метнулся к книге на столе. Её тонкие губы сжались, и идеально выщипанная бровь приподнялась, пока она делала шаг к столу, склоняясь над манускриптом. Я затаила дыхание, когда она оглядела страницу, затем подняла кисточку, аккуратно положив её рядом.
– Неужели вашим рукам незнакома ценность того, что они держат? – голос её был похож на едва слышное шипение змеи. – Поблагодарите судьбу, Гарсия. В иной раз ваша удача может иссякнуть.
Из меня вырвался прерывистый выдох, оставив горьковатый привкус пыли на языке; я медленно кивнула, не в силах произнести ни слова.
– К тебе, – продолжила Сьюзен, а её строгая серая юбка-карандаш и белая блуза выглядели как униформа надзирателя, – клиент для работы над заказом. Диас.
Диас. Эта фамилия обожгла слух, хотя я никогда её не слышала, и повисла в пропитанном пылью воздухе внезапной тяжестью, как запах дорогого табака, дорогой кожи и чего-то… необъяснимо холодного, чистого, словно только что наточенное лезвие. Я поспешно, пальцами, которые не слушались, прильнула к странице под лампой, но там не было ни следа, ни пятнышка – лишь едва заметный и быстро исчезающий, отблеск влаги.
– Он ждёт в кабинете три. Быстро, Ева. Он не из тех, кто любит ждать, – Сьюзен бросила на меня оценивающий взгляд, в котором читалось не столько беспокойство за клиента, сколько страх перед возможными последствиями для себя, и исчезла, затворив за собой тяжёлую дверь. Её шаги, отмеренные каблуками, быстро затихли в коридоре.
Он не любит ждать, как Тернер, или как отец в свои последние, самые тёмные месяцы, когда его требовательность к себе и ко мне перерастала в изматывающую ярость бессилия.
Я медленно сняла перчатки, чувствуя влажность ладоней, поправила скромную тёмно-синюю блузку и заправила непослушную прядь каштановых волос за ухо – жалкие, бесполезные попытки придать себе вид профессионала, а не перепуганной мыши. Дверь кабинета для переговоров номер три была приоткрыта, словно приглашая, или, скорее, подчёркивая, что ждать не станут. Я толкнула её, входя в прохладное, обшитое тёмным деревом пространство.
Он стоял у огромного окна, спиной ко мне, созерцая бесконечный, моросящий дождь, хлеставший по мутному стеклу. Он был высок; его подтянутый силуэт подчёркивал идеально сидящий тёмно-серый костюм, который, без сомнения, стоил больше моей годовой зарплаты. Осанка была безупречной – осанка человека, привыкшего владеть пространством и людьми, осанка безразличия и абсолютного контроля. Я замерла на пороге, вдруг осознав, насколько моя простая одежда и исходящий от меня запах клея и пыли не соответствуют этой роскоши и холоду.
– Мисс Гарсия.
Он обернулся не сразу, сначала закончив наблюдать за тем, как капли дождя сливаются в потоки на стекле, потом медленно, с почти кошачьей плавностью, повернул голову, и лишь затем – всё тело. Лицо его было гладко выбрито, кожа выглядела почти фарфоровой под тусклым светом кабинета, но именно глаза сразу приковали внимание – холодные, пронзительно-голубые, как осколки арктического льда. Эти глаза контрастировали с тёмными, почти чёрными волосами средней длины, небрежно уложенными назад, что добавляло его безупречному образу оттенок уверенности.
Его взгляд скользнул по мне – от моих стоптанных, хоть и аккуратно почищенных балеток, по скромной юбке, по блузке, к лицу, к непослушной пряди, снова выбившейся из хвоста, оценивающе, без тени человеческого тепла или простого любопытства, как опытный коллекционер, знающий цену вещам, рассматривает потенциальный лот на предмет скрытых дефектов. Я почувствовала себя экспонатом, возможно, дефектным.
– Мистер Диас, – выдавила я.
Он не улыбнулся, не сделал шага навстречу и даже не протянул руку, а просто продолжил смотреть. В комнате витал его запах – дорогая кожа ремня и обуви, едва уловимая, но стойкая нотка пряной, древесной туалетной воды, а под этим – что-то ещё, тревожное, как запах озона после грозы, или… что-то глубинное, исходящее от него самого. Боль? Неутолённый гнев? Экзистенциальная усталость, тщательно скрываемая под бронёй?
– Сьюзен Брайт утверждает, что вы лучшая в отделе по реставрации пергамента и ранних печатных книг, – его голос был ровным, бархатистым по тембру, но абсолютно лишённым тепла или заинтересованности, и это ощущалось как проверка меня: на прочность или на лояльность?
– Я… стараюсь, – проговорила я, сжимая руки за спиной в тщетной попытке скрыть предательскую дрожь в пальцах. Неверное слово. Глупое слово. Отец «старался». Изо всех сил и до последнего вздоха. И что это ему дало?
– «Стараюсь» – категорически недостаточно, мисс Гарсия, – он сделал один, единственный шаг вперёд, небольшой, но достаточный, чтобы пространство между нами сжалось, наполнившись ощутимым электрическим напряжением, а его серая броня оказалась на расстоянии вытянутой руки. – Для предмета, который требует моего внимания, необходимо совершенство, а малейшая неточность или слабина…
Он не договорил, но смысл повис в воздухе тяжелее свинца: разрушение или же конец.
Каждое его слово било точно по нарыву моего самого глубокого страха – требовательного коллекционера и совершенства. Картинки из прошлого хлынули лавиной: багровое, искажённое яростью лицо Тернера, его слюнявые брызги; бледное, как смерть, лицо отца, его глаза, полные немого ужаса и стыда… Потолок закачался, пол уплыл из-под ног, а в ушах зазвенело, нарастая до оглушительного гула. Я почувствовала, как холодеют кончики пальцев, как подкашиваются колени.
Не сейчас. Только не сейчас. Не при нём.
– Я… я не уверена, что…, – начала я, машинально отступая на шаг назад, ища взглядом хоть какую-то опору – строгие линии стеллажей с папками, холодный блеск сейфа в углу. Всё плыло и расплывалось в серой мути.
– Не уверены? – в его ледяных глазах мелькнуло что-то: не гнев, не раздражение, а скорее… азарт? Любопытство хищника, увидевшего слабину? Как будто моя нарастающая паника была именно той реакцией, которую он ожидал или даже провоцировал. Он снова шагнул вперёд, настойчиво сокращая дистанцию до минимума. Теперь я отчётливо чувствовала исходящий от него холод, тот странный, тревожный запах – чистого, свежего металла.
– Сьюзен расхваливала ваш перфекционизм и вашу исключительную деликатность. Именно это и требуется. Деликатная сила. Чтобы спасти то, что другие уже сломали, и безвозвратно, как они полагали.
«Спасти».
Это слово ударило в самую сердцевину моей души, в мою навязчивую, мучительную идею фикс: искупить, исправить непоправимое и спасти то, что когда-то погубило отца. Доказать, хотя бы перед самой собой, что я не просто испорченная вещь, несущая смерть и разрушение, но что моё прикосновение – пусть дрожащее, пусть отравленное страхом – может не только губить, но и возвращать к жизни.
Страх всё ещё сжимал горло и колотился в висках, но под ним зашевелилось и выпрямилось что-то твёрдое и опасное, как решение шагнуть за край пропасти. Я подняла глаза, заставив себя встретить его бездонный взгляд.
– Что это за книга? – вопрос сорвался с моих губ тише шелеста страниц, но отчеканился в воздухе с неожиданной для меня самой твёрдостью. Страх, ледяной и неотпускающий, сжимал горло, но в самой сердцевине, тлела иная искра – безрассудное желание искупиться. Ценой ли собственной жизни? Пожалуй, что да.
Идеальная линия его брови дрогнула на едва заметный миллиметр. Он ждал истерики, мольбы, покорного молчания – чего угодно, но не этого внезапного всполоха любопытства. Не этого вызова.
– «Псалтырь Святого Григория», – отозвался он, и слова его повисли в тишине, будто драгоценная пыль. – Северная Франция. Середина четырнадцатого столетия, если не ошибаюсь. Миниатюры… уникальны.
– В каком она состоянии? – спросила я, не давая паузе затягиваться.
– Состояние… – он замолк, и его взгляд, тяжёлый и проницательный, принялся изучать меня, выискивая малейшую трепетную жилку на виске, малейшую судорогу в уголках губ. – …Безнадёжное. Реставрировать её можно лишь в одном-единственном месте.
Он выдержал ещё одну паузу, более долгую, давящую.
– Готовы ли вы к такому уровню совершенства, мисс Гарсия? Готовы ли вы… спасти то, что может быть потеряно для мира навсегда?
Страх всё ещё жил в каждой клетке, но теперь он был смешан с чем-то пьянящим: решимостью? Отчаянием, принявшим форму действия? Я смотрела прямо в его глаза. Я могла отказаться, вернуться к своей рутине, к безопасной пыли архива, но мысль о спасении того, что было сломано, о возможности исправить нечто столь древнее и ценное, захлестнула меня с новой силой. Это был мой единственный шанс доказать себе, что я не разрушаю, а созидаю, единственный путь к искуплению.
– Где? – спросила я. – И когда начинать?
Уголок его рта – узкого, с жёсткой линией – дрогнул; это была не улыбка, ни в коем случае, а намёк на что-то: удовлетворение охотника, загнавшего дичь в ловушку? Триумф обладания? Он медленно, с небрежной грацией, достал из внутреннего кармана безупречного пиджака тонкий серебряный футляр. Он извлёк визитку, а на ней ничего лишнего, только имя, начертанное элегантным шрифтом: «Джеймс Диас», и адрес: роскошный, закрытый район на холме.
– Завтра. Ровно в девять утра. Не опаздывайте.
Он протянул визитку. Его пальцы – длинные, ухоженные, но с неожиданно грубыми суставами – едва коснулись моих, когда я взяла маленький прямоугольник плотного картона. Прикосновение было кратким и холодным, как прикосновение оружия, но от него по руке, по всей руке, пробежал странный импульс, словно электрический разряд, но без боли, лишь с ощущением необычайной силы.
Он повернулся, без единого лишнего слова, и вышел. Я стояла посреди кабинета, прижимая карточку к груди так сильно, что углы впивались в кожу сквозь тонкую ткань блузки.
Я разжала пальцы, разглядывая визитку; профессиональное любопытство, заглушенное было паникой, снова зашевелилось, сильнее страха. Такой шанс выпадал раз в жизни: работа над настоящим сокровищем, а не над потрёпанными «Хрониками Михаила», в идеальных условиях, без отвлекающих звонков, без Сьюзен, дышащей в затылок. Это была возможность доказать себе, что я не застряла в прошлом и что могу справиться с чем угодно.
Да, он был пугающим. Но разве не так ведут себя богатые коллекционеры, помешанные на своих сокровищах? Возможно, это просто его стиль или способ проверки. А я… я устала от этой вечной пыли Архива, от рутины, от взглядов, которые видят во мне только тень отца. Этот проект был вызовом, шансом вырваться и скрасить бесконечные дни клеем и микроскопом чем-то по-настоящему значимым, пусть даже в стенах его неприступной крепости.
Пыль Архива медленно оседала вокруг, возвращаясь в своё вечное парение. Я вдохнула её знакомый, горьковато-сладкий запах – запах старых страниц, клея и… возможности. Завтра. Всего лишь завтра. Я посмотрела на визитку ещё раз. Ладони всё ещё дрожали, но уже не только от страха, а от предвкушения, от желания наконец прикоснуться к чему-то великому и доказать, что достойна этого шанса, хотя бы себе.
Глава 2: Крепость Диаса
Дождь хлестал по стеклу такси, будто хотел смыть саму машину с крутого серпантина, потоками грязной воды уносившегося в серую бездну города внизу. Я вцепилась в ремень своей скромной сумки с инструментами – кистями, тончайшими скальпелями, драгоценными рулонами бумаги – словно это был единственный якорь, удерживающий меня от возвращения в привычную безопасность Архива. Каждый из этих инструментов был бережно приобретён на мои скромные сбережения, каждый рулон бумаги – почти реликвия, результат долгих поисков и экономии. Я не тратилась на себя, но на свою работу никогда не жалела.
Рядовые улочки с их вывесками и людьми давно остались позади, сменившись широкими, почти пустыми бульварами, где особняки прятались за высокими каменными стенами и деревьями, чьи кроны шумели под натиском непогоды, как встревоженные стражи. Воздух в салоне был спертым, пропитанным запахом дешёвого освежителя «Свежесть Альп», сырости от моего плаща и… страха перед тем, что ждёт за этими воротами.
8:47.
Такси, вздрагивая на кочках, упрямо карабкалось вверх. Сквозь водяную пелену и сквозь потоки, бегущие по стеклу, наконец проступили очертания массивных кованых ворот. Архаичные, тяжёлые, украшенные каким-то абстрактным узором из переплетённых прутьев, они выглядели неприступнее стен средневекового замка. Водитель, бородатый мужчина лет пятидесяти, тихо присвистнул, впечатлённый, и потянулся к домофону с визиткой, которую я показала ему через решётку. Его толстый палец неуклюже тыкал в кнопки домофона, и металл ответил глухим скрежетом. С неохотной торжественностью, створки начали разъезжаться, открывая взгляду перспективу подъездной аллеи. Тёмный и отполированный дождём камень вился лентой вверх, обрамлённый двумя рядами мрачных кипарисов, чьи силуэты казались траурными стражами этого места. Я мельком заметила отблеск объектива, спрятанного в одной из каменных колонн у ворот, и еле уловимый гул сервоприводов, подтверждающий, что эти ворота хоть и старые, но оснащены по последнему слову техники.
Особняк возник неожиданно, как мираж, выплывающий из серой мглы: серый, почти чёрный камень, лишённый каких-либо украшений или лепнины; острые, высокие крыши, вонзающиеся в низкое небо; узкие, вытянутые окна, больше похожие на бойницы, чем на источники света. Ни намёка на показную роскошь, только сокрушительная мощь и аура глубокой, почти враждебной изоляции; он не возвышался над городом – он владел этим холмом, холодный, бесстрастный и абсолютно чуждый всему, что было за его стенами. Такси притормозило под широким каменным козырьком, защищавшим от потока. Я поспешно расплатилась, бумажки слегка дрожали в моих пальцах. В зеркале заднего вида мелькнул взгляд водителя – не просто любопытство или опаска, а что-то вроде жалости.
«Да, вы явно не часто возите сюда таких, как я», – пронеслось у меня в голове.
Дверь открылась беззвучно, до того как моя рука успела подняться к бронзовой ручке в форме львиной головы. На пороге, заливаемом косыми струями дождя, стоял мужчина лет пятидесяти. Безупречно сшитый чёрный костюм, под которым угадывалась подтянутая фигура. Ослепительно белые перчатки. Лицо – непроницаемая маска вежливости, без единой морщинки эмоций.
– Мисс Гарсия? – голос был лишённым полутонов тепла или приветливости. – Мистер Диас ожидает. Пожалуйте.
Шагнув за порог, я почувствовала, как воздух вырывается из лёгких. Холл впечатлял. Высоченные потолки, терявшиеся в полумраке где-то наверху. Стены, обшитые тёмным, отполированным до зеркального блеска деревом, в котором тускло отражались очертания предметов. Огромная хрустальная люстра, чьи бесчисленные подвески мерцали тусклым светом. Я уловила короткие, почти незаметные блики от полированных поверхностей – возможно, скрытые камеры или датчики.
Воздух был стерильным, неестественно чистым – смесь дорогой полироли для дерева, древнего камня фундамента и чего-то ещё… неуловимого, дорогого и глубоко чужеродного. Ни одной личной фотографии. Ни одной картины. Ни одной безделушки на массивных консолях. Бездушная роскошь склепа. Мои мокрые, дешёвые балетки жалобно шлёпали по идеальному мраморному полу, оставляя мимолётные влажные следы, которые казались кощунством в этой стерильности.
Дворецкий – сомнений не было – скользнул вперёд абсолютно бесшумно. Его чёрный костюм сливался с полумраком коридора, а движения были отточены до совершенства, каждый шаг точно выверен, как у марионетки на ниточках – бесшумность явно была результатом многолетней тренировки, а не какой-то сверхъестественной особенности. Мы миновали анфиладу огромных гостиных. Они были совершенно пусты. Дорогая мебель, камины, в которых не тлело ни уголька, – всё выглядело как безупречные декорации для спектакля, который давно отыграли и забыли. Ни следа жизни, ни намёка на уют.
Свернули в длинный, слабо освещённый коридор. Где-то в глубине особняка гулко, с металлической чёткостью пробили старинные часы. Звук отдавался эхом в каменных недрах дома, подчёркивая гнетущую тишину. Я крепче сжала ремень сумки, стараясь заглушить поднимающуюся волну клаустрофобии.
Он остановился перед высокой дубовой дверью. Дверь была массивной, украшенной сложной готической резьбой – переплетённые листья и фигуры, смысл которых терялся в тени. Он постучал дважды, но звук был так тих, что тут же растворился в окружающей тишине.
– Войдите.
Дворецкий распахнул тяжёлую дверь, отступив в сторону, чтобы пропустить меня. Я переступила порог, и воздух снова вырвался из лёгких, на этот раз с тихим стоном восхищения и трепета.
Библиотека. Это слово казалось слишком мелким, слишком обыденным. Это был Храм. Святилище Книги. Пространство, где само время сгустилось до плотного аромата старой кожи переплётов, пчелиного воска, пыли столетий и… терпкого, насыщенного дыма дорогой сигары. Стены, вздымавшиеся к самому потолку, были сплошь скрыты за стеклянными витринами, за которыми теснились бесчисленные ряды фолиантов в потемневших кожаных переплётах, золотые тиснения на корешках которых поблёскивали в скупом свете.
Свет проникал сквозь высокие арочные окна, подчёркивая таинственность полумрака и выхватывая лишь пылинки, танцующие в его лучах, и массивный дубовый стол в центре, заваленный аккуратными стопками бумаг и ультратонким ноутбуком. У самого большого окна, спиной ко мне, замерла неподвижная фигура.
Джеймс Диас.
Он стоял так же, как вчера в Архиве. Тот же безупречный тёмно-серый костюм, который подчёркивал ширину его плеч, узость талии и скрытую силу. В его вытянутой руке, опущенной вдоль тела, дымилась сигара, тонкая струйка дыма которой тянулась кверху, медленно растворяясь в прохладном воздухе, вплетаясь в сложный букет запахов библиотеки. Это было странно, учитывая его требования к стерильности, но, похоже, его правила не распространялись на него самого. Он не оборачивался, завершая созерцание неистового дождя, бившего в огромное стекло. Его профиль в рассеянном сером свете был резким: чёткая линия скулы, идеальная гладкость недавно выбритой кожи, тёмные, почти чёрные волосы, аккуратно уложенные, но чуть длиннее и небрежнее сзади, касавшиеся воротника.
– Пунктуальность, – произнёс он наконец, медленно поворачиваясь ко мне всем телом. Голубые глаза неспешно скользнули по мне: от моих всклокоченных от влажности каштановых волос, по лицу, по скромной тёмной блузке и юбке, вниз, к моим промокшим, жалким балеткам, задержались на моей потрёпанной сумке с инструментами. Это был оценивающий взгляд, тот же, что и вчера: не любопытство, а проверка товара на соответствие заявленным характеристикам после транспортировки или же проверка, выдержала ли я сам факт приближения к его крепости. – Обнадеживающее качество, мисс Гарсия.
Он сделал несколько шагов в мою сторону. С каждым шагом запах сигары становился ощутимее, смешиваясь с его аурой. Он остановился, сохраняя почтительную, но ощутимую дистанцию.
– Ваше рабочее место, – небрежный кивок головы в сторону дальнего, хорошо освещённого угла огромного зала. – Условия работы включают полную стерильность. При первичном осмотре выявлен уникальный, агрессивный штамм плесени. Карантинные меры обязательны. Потому полная изоляция в рабочее время. Никаких контактов, никаких вопросов.
Я повернула голову, следуя за его взглядом. И мир остановился, забыв о нём, о давящей роскоши и о страхе.
В глубокой каменной нише, залитой ярким, но абсолютно немерцающим, белым светом профессиональных реставрационных ламп, стоял стол. Широкая рабочая поверхность из безупречно белого матового материала, установленная на основание с бесшумной регулировкой высоты. Над ней – мощные линзы увеличительных ламп на гибких кронштейнах, способные выхватить мельчайшую деталь. Рядом располагались стеллажи: стройные ряды кистей всех мыслимых размеров и жёсткости – от беличьих до щетинных; скальпели с микроскопическими сменными лезвиями; рулоны бумаги разной плотности и прозрачности, похожие на свитки драгоценного шёлка; флаконы с растворителями и специализированными гелями для реставрации пергамента; промокашки, пинцеты, микрошпатели… Всё самое лучшее, самое дорогое оборудование, о котором я, работая в Архиве, могла только мечтать в своих самых смелых фантазиях.
– «Псалтырь Святого Григория» дожидается вашего прикосновения, – он подошёл к встроенному в стену несгораемому сейфу, замаскированному под панель из того же тёмного дерева, что и стеллажи. Длинные пальцы мелькнули над цифровой панелью, раздался почти неслышный щелчок, и тяжёлая дверь отъехала в сторону. Оттуда он извлёк глубокий ларец. Тёмное дерево, вероятно, морёный дуб, полированное до мягкого блеска. Внутри – бархат насыщенного синего цвета, глубокого, как ночное небо. С движением, исполненным странного, почти ритуального почтения, он перенёс ларец на безупречно белую поверхность стола.