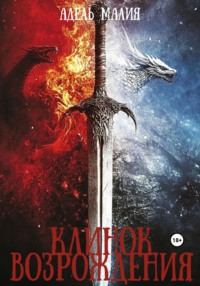Полная версия
Падение в твою Пустоту
Я взяла тёплое, гладкое деревянное крыло, несущее память его жеста, и положила его на стол рядом с термосом. Это был не талисман, а скорее безмолвный ответ: «Я здесь. Я помню твой жест. Я держусь».
Его взгляд скользнул по крылу, потом медленно поднялся и встретился с моим. В усталых синих глубинах не было удивления, был лишь короткий, чёткий кивок – признание: «Я вижу. Я помню тоже».
Он неожиданно встал, скинул плед и подошёл к одной из высоких витрин, где за стеклом спали другие древние фолианты. Открыв её ключом, висевшим у него на цепочке (я раньше этого не замечала), он выбрал не самый роскошный, небольшой томик в потёртом кожаном переплёте без золота. Принёс его к моему столу, положил рядом с Псалтырём, не касаясь его, и открыл.
Внутри оказались не тексты, а ботанические зарисовки – тончайшие акварели с изображением цветов, трав, листьев, которые, хоть и не были шедевром иллюминирования, были исполнены с любовью и вниманием к детали, оставаясь при этом хрупкими и почти невесомыми. Он перевернул несколько страниц и остановился на изображении колючего чертополоха, написанного с такой точностью, что казалось, вот-вот уколешься. Его длинный, удивительно нежный для такой руки палец коснулся изображения.
– Мать, – произнёс он тихо, это было первое слово за день. – Она… любила сухие травы. Запахи. Говорила, в каждой травинке – история земли.
Он провёл пальцем по нарисованному стеблю.
– Этот альбом – единственное, что я вынес из их спальни перед тем, как опекуны опечатали дом. После их… отъезда, – он не сказал «побега», но боль в слове была осязаемой. – Иногда… красота прячется в колючках. И требует терпения, чтобы её разглядеть. Как и твоя работа. Как и люди.
Он не смотрел на меня; его взгляд, тяжелый и полный невысказанного, был прикован к альбому, к хрупкому чертополоху, застывшему между страниц. Это был не просто экскурс в прошлое – это было приношение. Так же, как когда-то он подарил мне деревянное крыло и поделился со мной шоколадом в термосе, а теперь он вручал мне осколок своей души. Он приоткрыл щель в своей броне, показав не язву старой раны, а хрупкий огонек – память о чем-то светлом и настоящем, что существовало «до». До предательства, до Тейлора, до всей этой крови и пыли. И тончайшей нитью он связал тот далекий свет с настоящим – с моей работой, с нами, с этим тихим утром в библиотеке.
Я молча протянула руку к термосу. Горячий металл обжег пальцы, но это было приятно – ощущение, пробивающееся сквозь онемение. Я налила густого, темного шоколада в его пустую чашку и просто поставила ее перед ним на стол.
Его взгляд скользнул с альбома на чашку, с чашки – на меня. И в глубине его глаз, обычно скрытых непроницаемой сталью, что-то дрогнуло. Это не была улыбка, и даже не нежность – это слово слишком громко для того, что случилось. Это была тихая, бездонная благодарность, узнавание того, что я поняла правила этого странного, нового ритуала. Он взял чашку. Его пальцы – длинные, умелые, всегда такие уверенные – на миг коснулись моих, когда я убирала руку.
Прикосновение было мимолетным, почти случайным. Но в тишине библиотеки оно прозвучало громче любого слова. Искра. Ток. Молчаливое признание того, что броня треснула с обеих сторон. Никто не отпрянул. Воздух застыл, густой и сладкий от запаха шоколада, тяжелый от невысказанного перемирия, заключенного в этом касании.
– Спасибо, – прошептал он.
Я вернулась к столу. Рука почти не дрожала. Боль отступила, не исчезнув, но утратив свою власть. Я взяла самую тонкую кисть для прорисовки света в глазах святого – того самого света надежды, который я вдруг ощутила в каменной гробнице библиотеки. Миллиметр за миллиметром я продолжала работать, в то время как Джеймс сидел рядом, под грубым пледом, пил шоколад и смотрел на ботанические зарисовки матери, иногда скользя взглядом ко мне, к моей работе, к деревянному крылу на столе, молча присутствуя.
Он не сказал больше ни слова о прошлом, не говорил ни о Тейлоре, ни о пистолете в сейфе. Но когда Маркус пришёл (ровно в шесть), Джеймс встал.
– Маркус, проводи мисс Гарсия. И… – он сделал едва заметную паузу, – убедись, что она поужинала. Горячим.
Это было не протокольно, а глубоко лично – забота не о ресурсе, а о человеке. Маркус, чьё каменное лицо не дрогнуло, кивнул.
Я собрала вещи, положив деревянное крыло в карман; оно было тёплым, как и память о шоколаде с перцем, о ботаническом альбоме, о его пальце на рисунке чертополоха, о мимолётном прикосновении рук и о его взгляде на работу Луки.
Мы не касались друг друга, не говорили о чувствах. Но за этот день тишины, обмена термосами, шерстяных пледов, ботанических альбомов и молчаливого признания через деревянное крыло, мы перешагнули порог. Из сообщников по необходимости мы стали… союзниками по выбору, связанными не только страхом и болью, но и хрупкими нитями понимания, доверия и странной, обжигающей, как перец чили в шоколаде, близости. Пистолет оставался в сейфе, тень Тейлора висела за окном. Но в каменном сердце крепости Диаса затеплился огонёк – маленький, хрупкий, но настоящий. И завтра мы снова будем стоять плечом к плечу у белого стола, охраняя его.
Глава 11: На Острие Бритвы
Дни после обмена термосами и пледами текли в новом, тревожном ритме. Библиотека больше не ощущалась просто тюрьмой или храмом книги; она стала полем битвы, где сражались не только с разрушительным временем на пергаменте, но и с невидимыми стенами, возведёнными между нами. Тень Тейлора сгущалась с каждым днём, превращаясь из абстрактной угрозы в ощутимый гнёт, витавший в самом воздухе. Сводки новостей, которые Джеймс больше не скрывал – газетные вырезки, лежащие на его столе, частые, короткие звонки, обрываемые резким, нервным жестом, тихие обрывки телефонных разговоров – красноречиво говорили о финансовом давлении, близком к удушающему.
Его лицо стало ещё резче, а тени под глазами – глубже. В голубых глазах, вместо привычного льда, теперь постоянно горел напряжённый, почти лихорадочный огонь – огонь человека, загнанного в угол, но не сломленного. Он курил чаще: сигары сменились на более крепкие сигареты, и запах виски стал постоянным, едким фоном, смешиваясь с ароматом старой кожи и пыли.
Работа над Псалтырем продвигалась с болезненной медлительностью. Каждый спасённый фрагмент золота, каждый восстановленный завиток орнамента давался ценой невероятной концентрации. Я постоянно ощущала его взгляд на себе. Но теперь это был не только контроль надсмотрщика; в нём читалось что-то ещё – потребность в подтверждении, что он не один в этом каменном гробу, что я всё ещё здесь, у белого стола, с ним. Это невидимое присутствие давило почти так же сильно, как тень Тейлора. Моё тело, лишённое химического щита, отвечало на напряжение учащённым сердцебиением, лёгкой дрожью в конечностях, свинцовой тяжестью в мышцах после долгих часов работы.
Однажды вечером, когда серые сумерки уже полностью поглотили сад за высокими окнами, а в библиотеке царил лишь мерцающий свет моих ламп и тусклое сияние хрустальной люстры, я боролась с особенно коварным участком – микроскопическим надрывом на краю страницы. Работа требовала ювелирной точности: укрепить волокна пергамента невидимой шпонкой, не повредив хрупкую краску. Руки дрожали от усталости и накопленного нервного напряжения, от постоянного ощущения его взгляда. Каждая капля клея под мощной лупой казалась океаном, каждое движение пинцета – шагом по канату над пропастью.
Я почувствовала его приближение раньше, чем услышала шаги – тяжёлые, отмеренные, как удары метронома, отсчитывающего последние минуты перед бурей. Он остановился за моим стулом, не касаясь меня, но его присутствие ощущалось физически – тепло, исходящее от него, запах виски, дорогого табака и холодной стали. Электрическое напряжение в воздухе нарастало.
Он не спрашивал о прогрессе, просто стоял молча, созерцая мою работу, мои руки, сжимавшие тончайшие инструменты. Его дыхание было ровным, слишком ровным, будто тщательно контролируемым. Я чувствовала тяжесть его внимания на затылке, как физическое давление. Это вывело меня из ритма. Пинцет дрогнул в моих пальцах. Острый кончик микрошпателя, который я держала в другой руке, соскользнул и вонзился мне в подушечку указательного пальца левой руки, не защищённую перчаткой – я сняла её для большей чувствительности.
– Ай! – резкий, сдавленный вскрик вырвался сам собой. Капля крови, алая и яркая, как киноварь на пергаменте, выступила на бледной коже. Я инстинктивно отдёрнула руку, роняя шпатель на стол с тихим звоном. Боль была острой, но не сильной. Гораздо сильнее был стыд за свою неловкость и эту демонстрацию слабости перед ним.
– Глупость. Где перчатки, Ева? Этот инструмент не прощает небрежности.
В следующее мгновение его рука протянулась и мягко, но неотвратимо взяла мою травмированную руку за запястье. Не грубо, скорее как хирург, фиксирующий конечность. Его прикосновение было твёрдым, тёплым, неожиданно лишённым обычной ледяной дистанции.
– Дай посмотреть, – скомандовал он, уже тише, но всё так же властно.
Он повернул мою руку ладонью вверх, чтобы лучше видеть порез. Его глаза, такие голубые и такие напряжённые, прищурились, оценивая повреждение. Казалось, он сканировал не только ранку, но и дрожь в моих пальцах, бледность кожи.
– Глубоко, но не опасно.
Он потянулся к стерильной упаковке с микроскопическими спиртовыми салфетками, всегда лежавшей на столе среди инструментов. Ловким движением вскрыл упаковку, извлёк салфетку.
– Держись, – предупредил он. – Будет жечь.
Он прижал салфетку к порезу. Резкий запах спирта ударил в нос, смешавшись с его запахом и запахом библиотеки. Я вздрогнула от холода и жжения, стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть снова. Его рука, державшая моё запястье, была непоколебима. Он вытер кровь одним точным движением, обнажив маленький, но глубокий порез. Потом взял вторую салфетку, повторил действие.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.