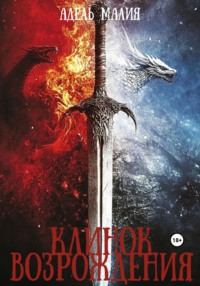Полная версия
Падение в твою Пустоту
Его рука теперь часто оказывалась рядом с моей на столе, когда он указывал на какую-то деталь. Пальцы – длинные, с безупречно подстриженными ногтями – ложились рядом так близко, что я чувствовала исходящий от них холод. В первые недели от такого вторжения в личное пространство перехватывало дыхание, но теперь я научилась сохранять каменное выражение лица, делая вид, что не замечаю этого вторжения. Его прикосновения стали частью пейзажа, как мебель в этой роскошной тюрьме.
Но в этот вечер все пошло не так.
Я работала над особенно сложным орнаментом – витиеватым переплетением виноградных лоз в углу страницы. Требовалась ювелирная точность: каждый штрих должен был идеально повторять вековые линии оригинала. Руки, обычно такие послушные, сегодня предательски дрожали – возможно, от усталости, накопившейся под слоем стимуляторов, возможно, от начинающейся ломки.
И случилось неизбежное.
В самый ответственный момент, когда кисть с каплей малиновой киновари почти касалась пергамента, в предплечье пронзила острая судорога. Пальцы дернулись непроизвольно, и кисточка сорвалась, оставив на безупречной поверхности крошечное, но яркое алое пятно. Оно выглядело вопиюще, как кровь на снегу.
Я замерла, чувствуя, как по спине разливается ледяной пот. В комнате воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая только тиканьем старинных часов. И тогда за моей спиной раздался знакомый, размеренный звук – его шаги. Он приближался, уже видел, уже знал. Его дыхание стало слышно четче, а запах дорогого одеколона с нотками кожи и бергамота заполнил пространство вокруг.
Воспоминания об отце и Тернере обрушились на меня, как ледяной водопад, смывая химическую апатию. Перед глазами вновь возник тот страшный день: отец, качающийся на веревке в полумраке гостиной, его перекошенное лицо. И Тернер, бьющейся в истерике, с пеной у рта кричащий: «Испорченная вещь! Несчастный! Бездарь!» Его голос эхом отдавался в моих висках, пронзая искусственное спокойствие, оставленное таблетками.
Я почувствовала, как кровь отливает от лица, оставляя кожу холодной и липкой. Пальцы непроизвольно сжались, а ногти впились в ладони. Все мое существо напряглось в ожидании взрыва, того самого уничтожающего взгляда, который я видела у Тернера, тех самых слов, что разрывают душу на части.
Но взрыва не последовало.
Я не решалась поднять глаза, боясь увидеть в его взгляде то же самое презрение, ту же самую ярость.
– Не двигайтесь, – его голос прозвучал неожиданно близко, прямо у моего уха. Диас стоял прямо за мной, а его дыхание касалось моей шеи, теплое, но ровное. Его рука, длинная, с ухоженными, но сильными пальцами, легла поверх моей, всё ещё сжимавшей злополучную кисть. – Вы дрожите. Это адреналин и страх. Я чувствую это. Глубоко вдохните и медленно выдохните.
Я послушалась, машинально; моё тело подчинялось его голосу. Но где-то глубоко, под слоем покорности, шевельнулся маленький, едкий протест. Его пальцы обхватили мою руку, нежно, но твердо, направляя кисть с другой, чистой кисточкой, смоченной в специальном растворителе.
– Капля нужна микроскопическая, – прошептал он у самого моего уха, а его тело почти касалось моей спины, пока он вел мою руку. – Попади точно на пятно, не задевая орнамент. Давление – минимальное, веди от края к центру.
Я чувствовала тепло его груди сквозь тонкую ткань рубашки, а ровный гул его сердца, столь непохожий на мой бешеный стук, создавал сюрреалистичный контраст. Эта внезапная, нежеланная близость пугала своей интимностью. Я отчаянно сопротивлялась ей, не веря происходящему, и в тот же миг ощущала себя одновременно его частью, марионеткой на невидимых нитях, и, парадоксально, невероятно защищенной.
Кисточка коснулась кляксы, а растворитель начал свою работу. Я чувствовала каждую микровибрацию в его руке, передающуюся моей, их синхронное движение. Доверие к его точности было иррациональным, но абсолютным в этот момент.
– Вот так. Теперь промокашка. Аккуратно. Не три, а промокни.
Его дыхание было теплым у моего уха. Мы двигались синхронно, как единый, сложный механизм. Пятно побледнело, затем исчезло, оставив лишь едва заметное изменение фактуры пергамента, почти неразличимое. Неидеально, но катастрофы удалось избежать.
Он отпустил мою руку. Его тепло исчезло, и я почувствовала внезапный холод и опустошение. Облегчение смешалось со стыдом и странной дрожью, не связанной со страхом, но с этой внезапной близостью. Я все еще не решалась обернуться.
– Кризис миновал, – произнес он, отходя на шаг. Но что-то в нем изменилось: напряжение? Или усталость, прорвавшаяся сквозь привычный контроль? – Но это предупреждение, мисс Гарсия. Ваши ресурсы на пределе. Химия – не панацея. Она лишь маскирует усталость, не устраняя её. Вам нужен настоящий отдых.
Он посмотрел на часы.
– Сегодня вы уезжаете раньше, в четыре. Маркус отвезет вас домой. Примите вечернюю дозу и ложитесь спать. Не включайте компьютер и не берите в руки телефон. Только сон.
Его забота, выраженная в терминах управления ресурсами, всё же прозвучала необычно.
– Хорошо, – прошептала я, наконец обернувшись. Его лицо было бледнее обычного, под глазами – глубокие тени, словно он сам не спал ночами. В его взгляде, обычно таком нечитаемом, мелькнуло что-то знакомое – то же истощение, что грызло меня изнутри. Бремя Тейлора, бремя этой войны, давило и на него. Мы были на одной тонущей лодке, скованные одной цепью.
В четыре Маркус отвез меня домой. Я выполнила инструкцию: приняла таблетку и погрузила спальню в темноту, пытаясь уснуть. Но химическое забвение не пришло. Вместо него пришли образы: его рука, ведущая мою, его тепло, его дыхание на шее; его тень, накрывающая меня у стола; его усталые глаза. И черный пистолет на синем бархате, который я видела ранее. Я ворочалась, пока за окном не заалел рассвет.
***
Утро встретило меня не просто серым – оно было мрачным и давящим. Маркус, как всегда, ждал у подъезда. Его каменное лицо показалось мне сегодня особенно бесстрастным, словно он предчувствовал что-то. Дорога в особняк была похожа на путь на эшафот. Предчувствие беды висело в сыром воздухе, пропитанном запахом приближающейся грозы.
В библиотеке царила непривычная тишина. Джеймса не было за его столом. Псалтырь лежал под покрывалом на моем столе, словно ожидая своей участи. Я медленно подошла, сняла шелк и замерла.
На открытой странице, рядом с почти законченным ликом Луки, лежал предмет: маленький, полированный кусочек темного дерева, вырезанный в форме стилизованного крыла ангела. Тот самый ангел, с которого я начинала работу здесь, тот, что так напоминал мне отца, с разорванным крылом, которое я чинила. Это новое крыло было целым, идеально вырезанным, отполированным до теплого, матового блеска. На нем не было ни позолоты, ни краски – только сама фактура дерева, его глубокая текстура, раскрытая и чистая.
Рядом с деревянным крылом лежала записка на листе обычной, плотной бумаги. Текст был написан от руки, четким, угловатым почерком, который я узнала бы из тысячи, почерком Джеймса Диаса:
«Для напоминания. Даже сломанное может обрести иную форму целостности. И лететь. – Д.Д.»
Я взяла деревянное крыло в руку. Оно было удивительно живым на ощупь, словно в нём билось собственное сердце. Это был не подарок в обычном смысле, слишком личное, слишком… уязвимое для подарка. Скорее, это было признание. Признание в том, что он видел мою борьбу, мою ошибку, мою боль и мою потребность в искуплении. И, возможно, в том, что его собственная «сломленность» тоже ищет какую-то иную форму целостности, способную взлететь, несмотря на трещины.
Д.Д. Джеймс Диас.
Сердце бешено заколотилось, не от страха, а от чего-то другого. От ошеломления? От неловкости? От какой-то запретной, пугающей надежды на понимание? Я сжала деревянное крыло в ладони, чувствуя, как его края впиваются в кожу, напоминая о реальности. В этот момент дверь библиотеки открылась.
Он вошел, не спеша, и выглядел опустошенным. Темные круги под глазами были еще глубже, лицо осунулось, а кожа казалась серой. Он был в темном свитере и брюках, без пиджака – неслыханная неформальность, разрушающая его обычный образ. В руке он держал пустой стакан, от которого, как и от него самого, исходил густой, терпкий запах виски. Пьяным он не выглядел. Скорее, он был разбит. Обессилен долгой осадой и истощен до предела. Его броня была не просто с трещинами, она буквально рассыпалась на глазах.
Его взгляд скользнул по моему лицу, затем упал на деревянное крыло, зажатое в моей руке, на записку на столе. Ничего не изменилось в его выражении, не было ни смущения, ни объяснений. Он просто подошел к своему сейфу, ввел код. Дверца открылась с тихим шипением. Он достал ту самую металлическую коробку и пистолет, лежавшие рядом.
Я замерла; леденящий страх сдавил горло. Он положил коробку и оружие на свой стол, прямо перед собой и повернулся ко мне, а в его глазах была лишь усталость.
– Вилсон Тейлор, – произнес он тихо, а имя звучало как грязное пятно на торжественной тишине библиотеки. – Он не просто инвестор. Он был партнером моего отца. До того, как родители решили сбежать, бросив меня и обломки компании. Тейлор скупил долги. Собрал компромат. Он владеет мной. Этот проект… – он кивнул в сторону Псалтыря, лежащего на моем столе, – …моя последняя попытка вырваться, отдать долг и очистить имя. Но он не хочет, чтобы я вырвался. Он хочет, чтобы я сломался. Как сломался твой отец. Чтобы доказать, что я такой же неудачник. Как и они.
Он посмотрел на металлическую коробку.
– Здесь… доказательства его махинаций и моей слабости. Моего страха. Пистолет… на случай, если Тейлор решит ускорить развязку. Или если я решу, что игра не стоит свеч.
Он говорил не для оправданий, а выкладывал карты. Показывал дно своей бездны. Открывался, как я когда-то открылась ему, показав свою вину за отца. Это был его собственный «занавес дождя», опускающийся между нами, скрывающий его боль, но обнажающий его истинную сущность.
– А Псалтырь? Откуда он у вас? Он же… бесценен. И никто не знал о его существовании, – выдохнула я, вспоминая его статус и невероятную редкость. Такой артефакт не купить просто так.
– Лучше тебе не знать, каким способом он оказался у меня. Достаточно того, что это было необходимо для моей… свободы и для обеспечения будущего, которое Тейлор хочет у меня отнять.
– Почему… почему вы мне это говорите? – выдохнула я, все еще сжимая деревянное крыло.
Он сделал медленный шаг, затем ещё один, сократив расстояние между нами ровно до той дистанции, когда уже чувствуешь тепло чужого дыхания, но ещё можно притвориться, что его нет. Его запах – терпкий аромат выдержанного виски, горьковатый шлейф дорогих сигарет и что-то ещё, глубинное, тёмное, что можно было назвать только одним словом: отчаяние – окутывал меня плотнее, чем самый толстый зимний плащ.
– Потому что ты здесь, – сказал он просто. – Потому что ты видела пистолет. Потому что твои руки, – его взгляд скользнул по моим пальцам, всё ещё сжимающим крыло, – умеют возвращать к жизни сломанных ангелов. Ты знаешь, что даже самые повреждённые вещи заслуживают второго шанса.
Пауза растянулась, наполняясь тиканьем старых часов где-то в глубине дома.
– И потому что… – он сделал последний шаг, и теперь между нами не осталось никакого безопасного пространства, – ты не сбежала. Ни после той ошибки. Ни после унижения с доктором. Даже когда дверь была открыта, и весь мир звал тебя прочь… Ты осталась.
Он замолчал, а его глаза – эти бездонные, выцветшие от бессонных ночей голубые озёра – держали меня в плену, словно сквозь толщу льда проглядывало нечто невысказанное.
Признание.
Горькое, как дым после сожжённых мостов, признание того, что в этой безумной войне, в этой тюрьме из древнего камня, пожелтевшего пергамента и немого страха, мы стали сообщниками. Последними, кто ещё понимал истинную цену ставок и глубину нашего падения.
– Мы уже прошли точку невозврата, Ева. – Моё имя сорвалось с его губ впервые за все эти недели. Не холодное «мисс Гарсия» – просто Ева. Оно звучало неестественно, будто чужой язык, будто давно забытая колыбельная, которую когда-то пела мать. – Оба. С Псалтырём или без – Тейлор не выпустит нас из своих когтей. Но с ним… – Его пальцы сжались в кулаки, сухожилия резко выделились под кожей. – У нас есть шанс. Жалкий. Искалеченный. Но шанс. Доведи это до конца. Помоги мне. И я… – Голос дал трещину, словно слова, которые он пытался произнести, обжигали ему горло раскалённым железом, – …сделаю всё, чтобы твоя жертва не канула в пустоту. Чтобы ты не стала просто ещё одной безымянной могилой на обочине чужой войны.
Он не предлагал свободы. Не сулил счастья. Только сделку – более честную, чем прежде, ведь карты наконец легли на стол лицом вверх. Договор между двумя изломанными душами на краю пропасти, где на кону стояли пистолет на полированном дереве и хрупкое крыло ангела в моих дрожащих пальцах. Сделку, где единственной валютой стало доверие, выкованное в аду взаимных манипуляций и горького признания собственной сломленности.
Мои пальцы скользнули по теплой древесине крыла, ощущая под неровным лаком обещание целостности. Затем взгляд поднялся к нему, к его осунувшемуся лицу, к синеве под глазами, к тем самым голубым глазам, где вместо привычной стальной решимости мерцала отчаянная надежда загнанного зверя, ищущего последнего союзника перед прыжком.
– Я доведу это до конца, – прозвучало тихо, но с неожиданной сталью в голосе. – Но больше никаких таблеток, Джеймс.
Его имя сорвалось с губ как вызов, как новый пункт в нашем кровавом договоре.
– Хочу спать без химического забвения. Чувствовать усталость в костях. Ощущать… боль. Даже если это опасно. Я отказываюсь быть просто инструментом. Я требую остаться человеком.
Он изучал меня долгим, пристальным взглядом, как будто впервые видел не подчиненную, а равную. Наконец, едва заметный кивок.
– Хорошо, – в этом единственном слове было больше уважения, чем во всех наших прошлых разговорах. – Рискнем. Но если ошибёшься… – фраза повисла в воздухе, завершенная молчанием. Пистолет всё так же лежал на столе. Тень Тейлора всё так же маячила за окном. А цена провала оставалась неизменной – наши жизни.
Джеймс замер на мгновение, его взгляд скользнул между металлической коробкой с доказательствами и пистолетом, лежащим на полированной поверхности стола. В свете настольной лампы оружие блестело как предостережение.
– Это лучше хранить в моём кабинете, – его голос внезапно приобрёл ту самую, знакомую сталь. – Здесь… слишком опасно.
Он поднял коробку с неестественной осторожностью, будто в ней находились не документы, а взрывчатка замедленного действия. Пистолет исчез в складках его пиджака с профессиональным движением человека, слишком хорошо знакомого с оружием.
Перед тем как выйти, он взял флаконы с таблетками и без колебаний просто разжал пальцы. Пластиковые контейнеры с грохотом покатились по дну металлической урны, и этот звук эхом разнёсся по кабинету, будто хлопок судьи на старте нового этапа нашей игры.
– Работайте, Ева, – он уже держал руку на дверной ручке. – Нам осталось недолго.
Дверь закрылась, и я осталась наедине с деревянным крылом в руках. В груди клубилось странное чувство – страх, смешанный с опустошением, но где-то в глубине, под грудой развалин, теплилось что-то… похожее на надежду.
Химический туман в сознании постепенно рассеивался, обнажая мир во всей его болезненной чёткости. Каждая эмоция резала по живому, каждый звук достигал барабанных перепонок с невыносимой ясностью. Это было мучительно. Это было прекрасно. Впервые за последнее время я чувствовала – по-настоящему, каждой клеткой тела.
И где-то там, за дверью, в своём кабинете с пистолетом в ящике стола и компроматом в сейфе, он испытывал то же самое. Мы были связаны теперь не просто обстоятельствами – двумя ранеными хищниками, нашедшими друг друга в кромешной тьме. Двумя игроками, поставившими всё на одну партию. С Псалтырём как нашим знаменем и тенью Тейлора, нависшей над обоими.
Трещины в его ледяной броне стали моими ориентирами в этой новой, ещё более опасной игре, где мы наконец стояли на равных – оба с оружием, оба с секретами, оба с ножом у горла друг друга. И почему-то именно это делало наш союз прочнее всех прежних договорённостей.
Глава 10: Свинец и Шелк
Тишина, наступившая после отказа от таблеток, ощущалась не благодатной, а скорее хирургической. Каждый звук – скрип пера, тиканье старых часов, моё собственное дыхание – резал слух. Свет от ламп, прежде просто холодный, теперь выжигал сетчатку. Главным же врагом оставалась боль. Она жила где-то за грудиной, сжимая лёгкие и отдаваясь тяжёлым свинцом в каждой конечности, напоминая о каждой трещине в душе: о Тейлоре, о вине, о хрупкости Псалтыря под моими, вновь обретающими чувствительность, пальцами.
Джеймс это чувствовал.
Первые проблески серого света, похожие на размытую акварель, только начали вырисовывать контуры библиотеки, когда он вошел в темном свитере с высоким воротником, который смягчил его обычно острые, как лезвие, очертания. Но больше всего поразило другое: его босые ступни, бесшумно ступающие по леденящему камню пола. Этот жест – такой интимный, такой немыслимо уязвимый – кричал либо о предельном доверии к этому проклятому месту, либо о глубочайшей, сокрушительной усталости, сбросившей даже оковы обуви.
В руках он нес два термоса, от которых шел слабый пар, и плед землистого оттенка, свернутый небрежным рулоном.
Он молчал. Его взгляд, отягощенный тенями под глазами скользнул по моему лицу, задержавшись на моих руках. Они лежали на краю стола, бледные и окаменевшие от бессонного напряжения, будто высеченные из мрамора отчаяния.
Потом он совершил нечто немыслимое: поставил один термос и развернутый плед прямо на мой рабочий стол. Рядом с микроскопом, вторгаясь в священное пространство инструментов, в самое сердце моего кропотливого искупления. Этот жест был громче любых слов: его дар предназначался не алтарю его власти, а моему алтарю – алтарю, превратившемуся из места искупления в жалкий оплот выживания.
Не глядя на меня, Диас направился к массивному креслу у мертвого, черного от золы камина – тому самому, где когда-то сидел сломленный и пьяный дух этого места. Он укутался пледом с ног до подбородка, словно эта грубая шерсть была последним щитом от всего мира, и открыл свой термос.
Воздух наполнился густым, обволакивающим ароматом наваристого бульона – чувствовались коренья, томившаяся долго говядина, что-то простое и древнее, как сама земля. Он поднес крышку-чашку к губам, закрыл глаза, глубоко вдыхая пар, и в этом мгновении он перестал быть неприступным владыкой каменной крепости. Он стал солдатом в окопе перед рассветной атакой: изможденным, уязвимым, пугающе-человечным. И в этой человечности таилась незнакомая опасность. Я смотрела на термос и плед, понимая: инструкций не было, лишь молчаливый договор. «Выживай. Как я».
Когда я открыла свой термос, в меня ударил аромат горячего шоколада: густого, тёмного, с горьковатой ноткой настоящего какао и едва уловимым оттенком… перца чили. Это было неожиданно, смело, словно вызов всепроникающей серости.
Я налила. Тепло чашки в дрожащих руках стало якорем в море боли. Глоток за глотком я пила горячее, горько-сладкое, с огненной искрой в послевкусии. Это была жизнь, не химия.
Мы не обменялись ни словом; библиотеку наполняли тиканье старинных часов, шорох шерсти, когда он шевелился, мои попытки заглушить стук сердца в висках и тихие глотки, а его взгляд был устремлён в пустоту камина или в бездну собственных мыслей. Я наблюдала за ним краем глаза, осторожно, как за редким зверем у водопоя.
Я взяла гладкое деревянное крыло, несущее память его жеста, и положила его на стол рядом с термосом. Это был не талисман, а скорее безмолвный ответ: «Я здесь. Я помню твой жест. Я держусь».
Его взгляд скользнул по крылу, потом медленно поднялся и встретился с моим. В усталых синих глубинах не было удивления, был лишь короткий, чёткий кивок – признание: «Я вижу. Я помню тоже».
Он неожиданно встал, скинул плед и подошёл к одной из высоких витрин, где за стеклом спали другие древние фолианты. Открыв её ключом, висевшим у него на цепочке (я раньше этого не замечала), он выбрал не самый роскошный, небольшой томик в потёртом кожаном переплёте без золота. Принёс его к моему столу, положил рядом с Псалтырём, не касаясь его, и открыл.
Внутри оказались ботанические зарисовки – тончайшие акварели с изображением цветов, трав, листьев, которые, хоть и не были шедевром иллюминирования, были исполнены с любовью и вниманием к детали, оставаясь при этом хрупкими и почти невесомыми. Он перевернул несколько страниц и остановился на изображении колючего чертополоха, написанного с такой точностью, что казалось, вот-вот уколешься. Его длинный, удивительно нежный для такой руки палец коснулся изображения.
– Мать, – произнёс он тихо, это было первое слово за день. – Она… любила сухие травы. Запахи. Говорила, в каждой травинке – история земли.
Он провёл пальцем по нарисованному стеблю.
– Этот альбом – единственное, что я вынес из их спальни перед тем, как опекуны опечатали дом. После их… отъезда, – он не сказал «побега», но боль в слове была осязаемой. – Иногда… красота прячется в колючках и требует терпения, чтобы её разглядеть. Как и твоя работа. Как и люди.
Он не смотрел на меня; его взгляд, тяжелый и полный невысказанного, был прикован к альбому, к хрупкому чертополоху, застывшему между страниц. Это был не просто экскурс в прошлое – это было приношение. Так же, как когда-то он подарил мне деревянное крыло и поделился со мной шоколадом в термосе, а теперь он вручал мне осколок своей души. Он приоткрыл щель в своей броне, показав не язву старой раны, а хрупкий огонек – память о чем-то светлом и настоящем, что существовало «до». До предательства, до Тейлора, до всей этой крови и пыли. И тончайшей нитью он связал тот далекий свет с настоящим – с моей работой, с нами, с этим тихим утром в библиотеке.
Я молча протянула руку к термосу. Горячий металл обжег пальцы, но это было приятно – ощущение, пробивающееся сквозь онемение. Я налила густого, темного шоколада в его пустую чашку и просто поставила ее перед ним на стол.
Его взгляд скользнул с альбома на чашку, с чашки – на меня. И в глубине его глаз, обычно скрытых непроницаемой сталью, что-то дрогнуло. Это не была улыбка, и даже не нежность – это слово слишком громко для того, что случилось. Это была тихая, бездонная благодарность, узнавание того, что я поняла правила этого странного, нового ритуала. Он взял чашку, и его пальцы на миг коснулись моих, когда я убирала руку.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.