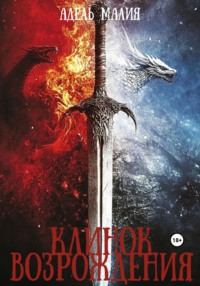Полная версия
Падение в твою Пустоту
В библиотеке он уже ждал. Стоял у окна, наблюдая за нескончаемым ливнем. Безупречный костюм снова скрывал тело, безукоризненно сидя на широких плечах, но не мог скрыть следы ночи на его лице. Резче выступили скулы, глубже залегли тени под глазами, придавая голубизне озёр болезненную, почти лихорадочную глубину. Воздух пах крепким кофе и… чистотой. Холодной, выверенной чистотой после бури, после хаоса. Запах виски был тщательно смыт, не оставив и следа. Он был Джеймсом Диасом, хозяином, вернувшимся в свою роль.
Он обернулся, когда я подошла к столу. Наши взгляды встретились коротко и остро, словно два клинка, соприкоснувшиеся в воздухе. В его глазах мелькнуло неловкость? Стыд? Или просто глубокая усталость от необходимости восстанавливать контроль, натягивать маску обратно?
– Мисс Гарсия, я…
Джеймс Диас запнулся. Это было так же неестественно, как если бы гравитация внезапно изменила направление. Он, человек абсолютного самообладания, потерял голос.
– Вчерашний вечер… Моё поведение было неприемлемым. Непрофессиональным. Алкоголь… не оправдание. Мои личные демоны не должны были вырваться наружу. И уж тем более… – Его взгляд скользнул по моей щеке, где он касался меня, и быстро отвёл в сторону, словно это прикосновение жгло его самого, – …не должны были касаться вас. Приношу извинения.
«Приношу извинения». Фраза звучала чужеродно в этом пространстве абсолютного контроля, как и его бледность. Он избегал прямого взгляда, фокусируясь на корешках книг за моей спиной. Эти вымученные, почти выдавленные из него извинения, давали мне опасное чувство… власти? Или просто показывали глубину его падения, трещину в его броне, и отчаянную, даже жалкую попытку залатать эту брешь и вернуться в привычную роль?
– Я понимаю, – тихо ответила я. Что ещё можно было сказать? Принять извинения? Простить? Не было смысла в этих социальных ритуалах. Мы были связаны не вежливостью, а общей бездной и общим врагом. – Это не повлияет на работу. Псалтырь ждёт.
Он кивнул, коротко, почти с облегчением, приняв мои слова как границу, которую пока не стоит переступать. Его взгляд наконец встретился с моим, и в нём будто мелькнуло признание общей уязвимости? Благодарность за то, что я не стала добивать и не воспользовалась его слабостью?
– Хорошо. Продолжайте, – его голос обрёл немного привычной твёрдости, но она была приглушённой, словно обёрнутой в вату невысказанного извинения, вату напряжения. – Отчёт к пяти. Тейлор запросил обновление.
Он развернулся и пошёл к своему столу. Я видела, как напряжены его плечи, как сжаты кулаки, как он буквально впивается пальцами в край стола, чтобы не дрогнуть. Это была битва за восстановление себя, за возвращение в те железные доспехи, что он так тщательно выстраивал годами. Он сражался с демонами, и вчера я увидела его без шлема и лат.
Я надела перчатки. Механические движения успокаивали и возвращали в привычный ритм: проверка лампы, настройка микроскопа, выбор тончайшей кисти. Передо мной был сложный орнамент, потемневший от времени и небрежного хранения, требовавший филигранной работы. Но мысли крутились вокруг него, Джеймса Диаса. Вчерашние признания, его извинение и его попытка снова стать Неприступным Джеймсом Диасом, хозяином крепости. Но трещина была видна, и она меняла баланс сил между нами, делая нашу динамику сложнее и опаснее. Моя решимость спасти Псалтырь, моя профессиональная ярость теперь смешались с новым пониманием – я была не просто наёмницей, а частью его личной битвы.
Пылинки танцевали в луче лампы, словно крошечные звёзды в неподвижном воздухе. Библиотека дышала тишиной, но теперь это была тишина перемирия. Хрупкого, зыбкого, основанного на взаимно обнажённых ранах и необходимости продолжать бой. Мы были союзниками поневоле, капитаном и механиком на тонущем корабле под флагом Тейлора. И это перемирие было страшнее открытой вражды, потому что оно требовало доверия, которого не было.
Внезапно в кармане завибрировал телефон. Я достала его, удивившись, что за стенами крепости кто-то помнил обо мне. Сообщение от Адама:
«Сегодня вечером свободна? Давно не виделись. Ужин в шесть? Выбирайся из своего книжного склепа!»
Я посмотрела на электронные часы на столе. 11:07. Ужин в шесть… В шесть. Моё законное время свободы начиналось ровно в шесть. Как он отреагирует? Вспомнились его слова, сказанные с такой стальной уверенностью: «Ты не уйдёшь», «Ты принадлежишь Псалтырю и моим правилам до шести». Но после шести – моё время. Это было в правилах. Я имела на это право.
Внутри поднялась волна. Не просто желание увидеть Адама, не просто тоска по нормальной жизни, а острая, почти физическая потребность доказать себе и ему, что за этими стенами есть что-то ещё, что мир не заканчивается на его мраморных полах и старинных фолиантах, что я не полностью растворена в его мире боли, контроля и пыли и что «Ева», та Ева, которая когда-то смеялась и жила полной жизнью, ещё существует.
Я набрала ответ, пальцы чуть дрожали от возбуждения и предвкушения:
«Да. Заедешь за мной в шесть?»
Ответ прилетел почти мгновенно, наполненный его неизменным оптимизмом:
«Конечно! Ровно в шесть буду! Где тебя забрать? Скинь адресок!»
Я замерла. Адрес. Правило Диаса, произнесённое холодным, не терпящим возражений голосом: «Абсолютная секретность. Ни единого слова о сути работы и о клиенте». Адрес особняка? Он не был прямо запрещён. Но это был ключ к его крепости, к его убежищу и к его тайне. Это был акт неповиновения.
Я быстро нашла адрес на карте телефона и, сделав глубокий вдох, отправила.
«Улица Кленси, 17. Жду в шесть».
Я сунула телефон обратно в карман, ощущая прилив странного возбуждения и тревоги, смешанный с осознанием того, что я переступила черту. Мой маленький бунт. Моя попытка сохранить кусочек себя, свою идентичность.
Работала я с лихорадочной сосредоточенностью, словно время могло ускользнуть. Каждый мазок, каждое движение скальпеля было выверено. Время текло странно: минуты тянулись, а часы пролетали. Когда электронные часы на столе показали 17:59, я отложила инструмент, идеально завершив текущий этап. Ровно в 18:00 я сняла перчатки и аккуратно прикрыла Псалтырь защитным полотном, словно укладывая ребёнка спать. Ритуал завершения работы и… начала моей короткой свободы.
Я направилась к выходу. Дворецкий уже ждал у дверей, бесстрастный, как всегда, а его белые перчатки казались яркими пятнами в полумраке. Он открыл тяжёлую дверь. Вечерний воздух ударил в лицо прохладой и запахом приближающегося дождя, несущего озон и свежесть.
И он был там. Знакомая машина Адама, яркая и обыденная, стояла у массивных кованых ворот. Он сам стоял рядом, нетерпеливо улыбаясь, махал рукой. Его обычная, неотягощённая жизнерадостность, его простота и теплота казались ослепительно ярким пятном на фоне мрачной готики особняка. Ощущение нормальности, такое давно забытое и такое желанное, сжало мне горло.
Я сделала шаг навстречу. И вдруг – необъяснимое чувство. Шестое чувство? Вина? Я резко обернулась.
Мой взгляд невольно потянулся вверх, к высоким арочным окнам библиотеки. В одном из них, том что выходило прямо на подъездную аллею, четко вырисовывалась неподвижная фигура. Джеймс Диас. Окно было лишь слегка освещено изнутри, превращая его в подобие театральной рамки, где он играл роль безмолвного наблюдателя.
Тонкая сигарета в его руках (не привычная сигара – а значит, это не ритуал, а нервная привычка) тлела в полумраке, как единственная кровавая точка в темноте. Ритмичные подрагивания этого огонька напоминали пульс – слишком ровный, слишком спокойный для того, что происходило внизу.
Его поза, сама геометрия его силуэта против света – всё это было тщательно выверенным посланием. Взгляд скульптора, оценивающего свою ещё недоделанную статую. Владельца, проверяющего послушание питомца.
Особенно чётко это понимание ударило в тот момент, когда я осознала: он смотрел не на Адама, не на машину, не на сцену в целом. Только на меня. Его лицо скрывали тени, но в этом и заключался весь смысл – он стал воплощённым Наблюдателем, олицетворением того вечного контроля, от которого мне не уйти.
Он дал мне достаточно верёвки, чтобы я могла почувствовать вкус свободы – ровно до того момента, когда он решит затянуть петлю. В этот миг небо разверзлось. Ливень обрушился стеной, такой плотный и яростный, что мгновенно скрыл особняк, окно. его силуэт за непроглядной водяной пеленой. Мир сузился до шума воды, стекающей потоками, и размытых огней машины Адама, мелькающих сквозь водную завесу.
Я резко повернулась и бросилась под проливной дождь к машине, чувствуя, как холодные струи хлещут по лицу, смывая пыль и напряжение крепости. Моя свобода началась. Но я знала, что невидимые цепи крепости Диаса протянулись за мной сквозь ливень. А этот дождь был занавесом, за которым скрывался его неумолимый взгляд и тень Уилсона Тейлора, напоминавшая, что сроки тикают, а цена ошибки – гибель всего.
Глава 6: Пыль и Пепел
Кафе «Уютный Уголок» утопало в тёплом свете ламп, запахе свежесваренного кофе и гомоне голосов. Это был мир, настолько противоположный мрачной тишине и стерильности особняка Диаса, что казался перегретым и слишком ярким. Я сидела напротив Адама, сжимая в руках кружку с обжигающе горячим шоколадом, пытаясь впитать его жизнерадостное присутствие.
– Ну, и как тебе твоя новая берлога? – спросил он, заедая кусок пиццы, а его карие глаза смотрели на меня с искренним любопытством. – «Улица Кленси, 17» – звучит солидно. Богатый клиент, да? Надеюсь, платит соответственно твоему таланту «воскрешателя ископаемых»!
Он засмеялся своим лёгким, беззаботным смехом. Я попыталась улыбнуться в ответ, но губы плохо слушались.
– Клиент… требовательный, – вымучила я, избегая его взгляда. – Работа сложная. Очень древняя рукопись.
Каждое слово давалось с трудом, как будто я говорила на чужом языке. Как описать Диаса, Псалтырь, ту атмосферу тотального контроля и ледяного давления? Как объяснить, что «требовательный» – это мягчайший эвфемизм?
– Ну, тебе не привыкать к сложностям, – махнул он рукой, не замечая моего напряжения. – Помнишь, как мы в десятом классе твою бабушкину Библию восемнадцатого века «реставрировали»? Скотчем и клеем ПВА? Господи, кошмар!
Он снова рассмеялся, и это воспоминание из другой жизни на секунду согрело меня изнутри, но тут же нахлынула волна тоски. Та Ева, с клеем ПВА и смехом, казалась такой далёкой, почти чужой.
– Помню, но это… не то, Адам. Совсем не то. Здесь… – Я запнулась, поймав себя на том, что вот-вот сорвусь и расскажу слишком много. О правилах. О секретности. О его взгляде в окно. – Здесь всё по-другому. Очень тихо. И… пыльно. По-особенному пыльно.
Адам посмотрел на меня внимательнее, а его улыбка слегка потускнела.
– Ты выглядишь… уставшей, Ева. Очень. И какая-то… отстранённая. Как будто ты физически здесь, а мыслями – там, в своём пыльном склепе с древним фолиантом. – Он протянул руку через стол, коснулся моей. Его пальцы были тёплыми и живыми. Так не похожими на ледяное прикосновение в библиотеке. Я едва не дёрнулась. – Тебе правда нормально? Может, этот клиент… слишком давит? Если что, ты знаешь, я всегда помогу. Вытащу тебя оттуда. Устроим бунт!
Он подмигнул, пытаясь разрядить обстановку.
Его забота, такая простая и искренняя, обожгла меня сильнее шоколада. Вытащу тебя. Но как объяснить, что я сама загнала себя в эту клетку? Что мне нужно это искупление? Что тень отца и угроза Тейлора не отпустят?
– Всё в порядке, правда, – сказала я, насильно заставляя себя звучать убедительнее. Я убрала руку из-под его ладони. – Просто работа поглощает. Как всегда. Я… привыкну.
Привыкну к его контролю?
Мы говорили ещё о чём-то – о его проекте, о старых друзьях, о новом фильме. Я кивала, поддакивала и пыталась улыбаться. Но мои мысли постоянно уносились обратно на улицу Кленси, 17. К холодному свету ламп над белым столом. К молчаливому призраку Джеймса Диаса, который, я была уверена, уже знал, что я здесь.
Адам довез меня до моей скромной квартирки в тихом районе. Дождь всё ещё накрапывал.
– Позвони, если что, хоть ночью! – крикнул он в окно машины, прежде чем уехать. Его фары растворились в мокрой темноте, оставив меня стоять под крыльцом, ключом в дрожащей руке.
Моя квартира встретила меня тишиной и запахом пыли. Не той, благородной, вековой пылью Архива или библиотеки Диаса, а обычной, бытовой – запустения. Я не была здесь толком с тех пор, как начался проект. Комнаты казались чужими декорациями из прошлой жизни. Я включила свет, он оказался резким, поэтому я сразу же потушила. Предпочла темноту и шум дождя за окном.
В душе я пыталась смыть ощущение особняка, запах дыма, виски и ледяной призрак Джеймса. Но вода была просто водой. Она не смывала ни чувство вины, ни странную связь, возникшую между нами после вчерашнего признания и прикосновения.
«Мы сломанные механизмы. И наши шестерёнки… могут сцепиться только друг с другом».
Его слова эхом отдавались в тишине ванной.
Я легла в постель, но сон не шёл. Перед глазами стояли то открытое лицо Адама, его простые заботы, то – пронзительно-голубые глаза Диаса, полные боли и контроля, то – израненный лик евангелиста Луки под лупой. Два мира. Один был тёплым и нормальным, но ставший чужим. Другой – холодным и опасным, но единственным, где я чувствовала своё жалкое подобие цели. Искупление или свобода? Яркий свет кафе или вечная пыль библиотеки? Я ворочалась, пока за окном не посветлело.
Глава 7: Тень Замка
За окном такси не прекращался монотонный дождь, превративший мир в размытое серое полотно. Капли упрямо выстукивали ритм на крыше, словно пытались синхронизироваться с учащённым стуком моего сердца – тревожным метрономом, отсчитывающим последние минуты перед встречей с тем местом. Знакомый серпантин вился вверх, как змея, ведущая к кованым воротам, которые когда-то вызывали трепет, а теперь лишь заставляли сжиматься живот от тяжелого предчувствия. Их силуэт, расплывающийся за завесой дождя, казался мне символом всего, от чего я не могла убежать.
Его слова – произнесённые тем вечером между глотками виски, пропитанные откровенностью и чем-то ещё, – до сих пор звенели в голове, как набат. И то ледяное прикосновение, оставившее на щеке невидимый ожог, до сих пор ощущалось на коже.
«Не уйдёшь».
И я не уходила. День за днём, вопреки страху, вопреки внутреннему голосу, шепчущему «беги», я возвращалась. Добровольно. Как будто в этом было моё проклятое искупление.
Такси резко подбросило на размокшей кочке, и мои пальцы судорожно впились в ремень сумки, будто это был единственный якорь в бушующем море.
Внутри – инструменты, мой жалкий арсенал в этой безнадёжной битве за чужое бессмертие. Ворота распахнулись с театральной медлительностью, словно неохотно допуская меня в своё царство. Аллея кипарисов, мрачных и вытянувшихся в скорбном молчании, казалась сегодня похоронным кортежем, ведущим к главному монументу – серой громаде особняка, постепенно проявлявшейся из дождевой пелены.
«Просто работа, – попыталась я убедить себя, – сложная, изолированная работа». Но рациональные доводы тонули в нарастающей панике, которая уже пустила в моей душе крепкие, цепкие корни.
Машина замерла под массивным каменным козырьком, и на мгновение мне показалось, будто само здание затаило дыхание. Дверь особняка распахнулась беззвучно, как пасть хищника, давно привыкшего к своей добыче, а коридоры встретили меня ледяным молчанием. Каждый шаг моих потрепанных ботинок отдавался глухим эхом, преувеличенно громким в этой стерильной тишине.
Шлёп. Шлёп. Шлёп.
Звук казался нарочито грубым, вызывающе неуместным в этом царстве безупречности, где даже воздух казался отмеренным по линейке. Кожа на спине заныла от невидимого давления – я чувствовала на себе пристальное внимание скрытых камер. Их невидящие стеклянные зрачки, спрятанные в панелях из красного дерева, в позолоченных рамах пустующих картин, неотрывно следили за каждым моим движением. Сегодня их взгляд ощущался особенно остро – холодные прицелы, впивающиеся в спину, фиксирующие каждый жест, каждый вздох. Тотальный контроль, проникающий под кожу, превращающий даже дыхание в отчет для кого-то незримого.
Мой храм, моя святыня, место, где когда-то жила магия творения – сегодня и оно утратило последние следы былого очарования. Белоснежный стол, залитый безжалостным светом ламп, больше не напоминал алтарь искусства – лишь операционный стол под слепящими прожекторами, где я, словно хирург, вскрываю плоть веков.
Псалтырь лежал раскрытым на странице с евангелистом Лукой. Его лик, кропотливо вызволенный мной из тьмы времени, проступал на пергаменте, как призрак, явившийся не по своей воле.
Работа шла.
Ангел обрел крыло. Лазурь неба очистилась от наслоений копоти и забвения. Казалось, это должно было наполнять гордостью, давать силы… Но сегодня спасенный фрагмент оставил во рту лишь горький привкус. Каждый восстановленный миллиметр – не победа, а лишь шаг к следующему этапу каторги. К новым бесконечным часам в этом каменном склепе, где вечность была не даром, а проклятием.
В дальнем конце библиотеки, за массивным дубовым столом, сидел Джеймс. Он не работал – он выжидал. Его руки лежали на столешнице, пальцы сложены в идеально ровную, но напряженную пирамиду. Голова была слегка повернута в мою сторону – ровно настолько, чтобы я могла видеть его профиль, но не разглядеть выражение.
Его взгляд поймал меня еще в дверном проеме и не отпускал, пока я пересекала зал. Ни слова. Ни кивка. Только это всевидящее молчание, под тяжестью которого я чувствовала себя как под микроскопом – разобранной на атомы, изученной до последней мысли.
Мои пальцы скользнули в белые хлопковые перчатки – хрупкий барьер между мной и древним пергаментом. Фикция защиты. Инструменты аккуратно разложились передо мной в привычном порядке, но сегодня их холодный блеск казался чужим. Я делала вид, что готовлюсь к работе, в то время как его молчание давило на виски, как ртуть. В нём читалось нечто большее, чем просто угроза – напряжённое ожидание, будто я была подопытным кроликом в его жестоком эксперименте.
Краем глаза я заметила беспорядок на его столе: стопки документов с мелким, нервным почерком, старинные фолианты, явно не относящиеся к Псалтырю. Он был погружен в свою тайную работу, лишь изредка бросая на меня беглые взгляды, как врач, проверяющий показания приборов у тяжелобольного пациента. В эти моменты я чувствовала себя очередным экспонатом в его коллекции – сломанным механизмом, который он пытался понять, чтобы лучше разобраться в собственных поломках.
Мысль перенесла меня в Архив. Там пыль была живой – тёплой от дыхания столетий, наполненной шёпотом страниц и дружелюбным скрипом старых кресел. Я боялась тогда только одного – неосторожным движением повредить хрупкие страницы. Теперь же страх разросся, как плесень: боязнь опоздать, сделать лишний жест или выдать усталость дрожанием рук. Даже слишком громкий вздох мог стать предательством. Я научилась бояться всего. Но больше всего – не угодить ему.
Озарение нахлынуло внезапно, смывая последние остатки самообмана. Дом Диаса никогда не был крепостью для Псалтыря – он был тюрьмой для меня. В этом заключалась вся разница: крепость защищает, тюрьма же существует лишь для того, чтобы запирать, контролировать и дробить волю на мелкие осколки. Его безупречные правила, навязчивая секретность, этот пронизывающий взгляд, неотступно следующий за мной, камеры, притаившиеся в стенах – всё это были звенья одной цепи. Пусть золотые, усыпанные бриллиантами, но неумолимо сжимающиеся вокруг. И каждый день одна и та же дорога – под монотонный аккомпанемент дождя по крыше такси, сквозь строй мокрых кипарисов, похожих на скорбных часовых, к этим чёрным кованым воротам… Это был не путь на работу. Это был ежедневный ритуал добровольного заточения.
Мои пальцы сжали кисть с такой силой, что тонкий корпус затрещал под давлением. Перед глазами вспыхнул образ: я, промокшая до нитки, бегущая под проливным дождём к огням машины Адама. К его простой, громогласной улыбке, разгоняющей тучи. К теплу, которое обжигало после этого ледяного дома. К нормальной жизни, которая казалась такой близкой – прямо за этими каменными стенами, – но с каждым днём становилась всё призрачнее, как мираж в пустыне. Этот миг воспоминания стал последним глотком воздуха перед погружением в ледяную бездну. И теперь, возвращаясь сюда, я кожей ощущала, как массивные каменные стены особняка смыкаются за моей спиной. Дорога к Диасу больше не вела к работе или искуплению – она превратилась в путь на Голгофу, где каждый поворот серпантина, каждый скрип раскрывающихся ворот отмерял шаг в бездну, приближая момент окончательной потери себя.
Минуты тянулись, словно расплавленное стекло. Удары старинных часов, доносящиеся из глубин особняка, отзывались спазмами в напряжённом желудке. Я механически делала вид, что работаю, но под тонкой тканью перчаток ладони покрылись липкой испариной. Его взгляд прожигал спину, заставляя каждый позвонок сжиматься в животном предчувствии опасности. Почему он молчит? Что скрывает это ледяное спокойствие? Я чувствовала себя лабораторной мышью в преддверии решающего опыта.
Неожиданно он поднялся и направился к высоким застеклённым витринам. Его пальцы безошибочно нашли потрёпанный фолиант среди безупречных томов. Устроившись в кресле у мёртвого камина, он открыл книгу с почти ритуальной торжественностью. Ни сигареты, ни виски – только он, пожелтевшие страницы и эта давящая тишина, ставшая третьим участником нашего странного противостояния.
Его молчаливое присутствие оказалось хуже прямого наблюдения. Физически он был погружен в чтение, но я кожей ощущала, как его внимание приковано ко мне. Каждый мой вздох, каждое движение кисти происходило под незримым контролем, будто невидимые нити соединяли мои нервы с его сознанием. Я пыталась сосредоточиться на повреждениях пергамента, на тончайших трещинах в краске евангелиста Луки, но его молчание действовало как магнит, вытягивающий из меня последние капли спокойствия.
Когда после обеда напряжение стало невыносимым, я отложила инструменты. Стакан воды в дрожащих руках, взгляд в окно – за стеклом все так же лился дождь, серый и бесконечный, как сама эта тюрьма.
И тогда он заговорил. Не поднимая глаз от книги, ровным голосом, будто диктовал погодный прогноз:
– Мистер Адам Харрис. Двадцать два года. Архитектор. – Перелистывание страницы прозвучало как выстрел. – Фирма «Классик-Дизайн». Улица Милтон, 8, квартира 14.
Пауза. Его палец скользнул по тексту.
– Обладает… жизнерадостным нравом. Предпочитает пиццу, футбол и… – губы искривились в подобии улыбки, – довольно пошлые анекдоты.
Он наконец поднял глаза.
– Надеюсь, вчерашний вечер оправдал ваши ожидания?
Кровь ударила в виски, оставив лицо ледяным. Пол под ногами внезапно потерял твердость, и я вцепилась в край стола, чтобы не рухнуть. Его слова обожгли сильнее раскаленного металла – он вывернул наизнанку всю мою жалкую попытку сохранить островок нормальности. За одну ночь. До мельчайших деталей. Адрес. Работа. Даже эти глупые анекдоты, которые Адам рассказывал с таким простодушным смехом.
В горле встал ком, когда до меня дошла вся глубина этой слежки. Он владел не только моим временем в этих стенах – он контролировал каждый мой шаг за их пределами. И демонстрировал это с такой… убийственной небрежностью. Как кошка, играющая с мышью перед смертельным укусом.
– Вы… вы следили за ним? За мной? – вырвалось у меня.
Он наконец поднял глаза от книги.
– Я обеспечиваю безопасность проекта, мисс Гарсия. Абсолютную безопасность и секретность. Любое внешнее вмешательство, любая… утечка информации представляет угрозу. Особенно сейчас. – Он отложил книгу и медленно встал. – Ваш друг Адам, конечно, безобиден. Как щенок. Но щенки иногда лают и привлекают внимание. Внимание… которое нам сейчас категорически не нужно.
Он медленно подошёл к столу, открыл верхний ящик и извлёк оттуда свёрнутую газету. Бумага шуршала, как змеиная кожа, когда он бросил её на мой безупречный рабочий стол, прямо рядом с драгоценным Псалтырем. Газета развернулась, обнажив зловещий заголовок в деловом разделе, набранный жирным чёрным шрифтом:
«ТЕЙЛОР ДАВИТ: ИНВЕСТОР УГРОЖАЕТ СОРВАТЬ СДЕЛКУ ИЗ-ЗА ПРОСРОЧЕННОГО АНТИКВАРИАТА»
Чуть ниже, не менее ядовитый подзаголовок:
«Источники сообщают о нетерпении Уилсона Тейлора в отношении конфиденциального реставрационного проекта, ассоциированного с Дж.Д. Сроки горят».
Я почувствовала, как в ладони впиваются собственные ногти. Имени не было, но инициалы «Дж.Д.» и намёк на реставрацию… Это был он. Это был Псалтырь. Тейлор начал игру в открытую, вынося ссоры из избы, зная, что это заденет Диаса. Он создавал шум – именно то, чего мы так старались избежать.