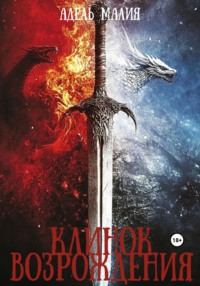Полная версия
Падение в твою Пустоту
– Он знает, что проект здесь. Знает, что сроки горят, и намеренно поднимает волну, чтобы спровоцировать ошибку. Найти слабое место. – Его взгляд впился в меня, сканируя каждую микротрещину в моём выражении лица. – Ваша… «прогулка», мисс Гарсия, была не просто нарушением условий конфиденциальности. Она стала риском. А сейчас любой риск – это фатальная угроза. Вы протянули Тейлору нить. И он непременно начнёт тянуть.
Он сократил расстояние между нами одним плавным движением, и внезапно я ощутила всю опасность его близости.
– Вы действительно полагали, что у вас есть выбор? Что существует какая-то «жизнь» за пределами этих стен? – В глубине его голубых глаз вспыхнуло что-то первобытное, словно прорвавшееся сквозь ледяную броню. – Вы ошибались. С той самой секунды, когда переступили этот порог, с момента, когда ваши пальцы впервые коснулись страниц Псалтыря, вы принадлежите этому.
Его палец резко опустился сначала на газетный заголовок, затем на древний манускрипт, оставив невидимые метки на обоих.
– Вы принадлежите мне. Этой работе. До самого конца – будь то победа или гибель. Ваши… ужины, – губы искривились в гримасе отвращения, – роскошь, на которую у нас нет права. Роскошь, которая может разрушить всё.
Отступив на шаг, он снова превратился в того холодного стратега, каким я его знала. Но теперь я видела, что под этим льдом бурлит вулкан.
– Отныне вы покидаете дом только в сопровождении. Прямой маршрут – сюда и обратно. Никаких отклонений. Никаких встреч. Никаких контактов без моего личного одобрения. – Из внутреннего кармана он извлёк сложенный лист. – Дополнение к нашему договору. Подпишите. Немедленно.
Он положил бумагу передо мной рядом с газетой. Текст был мелким, но ключевые фразы бросались в глаза: «…соглашается на ограничение свободы передвижения…», «…разрешает мониторинг коммуникаций…», «…принимает меры безопасности, включая сопровождение…».
Я смотрела на бумагу, потом на Псалтырь, на его едва различимый лик Луки, потом на Джеймса. Страх сменился ледяной яростью. Яростью загнанного зверя.
– Это… это тюрьма, – прошептала я.
Он наклонился чуть ближе, его лицо оказалось в сантиметрах от моего. Голубые глаза горели холодным пламенем.
– Нет, мисс Гарсия, – прошептал он в ответ. Его дыхание пахло мятой и сталью. – Это война, а на войне бывают осаждённые крепости. И дезертиров расстреливают или сдают врагу. Выбор за вами. Подпишите или собирайте вещи. Но помните: если вы уйдёте, Псалтырь погибнет. Тейлор не даст мне времени найти замену. А ваша репутация… – Он усмехнулся, коротко и беззвучно. – …будет похоронена вместе с ним. Вы станете дочерью неудачника, которая сбежала и прикончила последний шедевр. Трехкратной убийцей. Окончательно и бесповоротно.
Его слова попали в самую сердцевину моей боли, точно вскрыли старую рану. В ту самую вину, что годами грызла меня изнутри. В страх повторения прошлых ошибок. В ненасытную жажду искупления.
Мой взгляд метнулся между газетой с её кричащими заголовками о Тейлоре и хрупкими страницами Псалтыря. Лик евангелиста Луки, полустёртый временем, смотрел на меня с немым укором.
Искупление или свобода?
Пыль веков или пепел поражения?
Выбора не существовало.
Тот единственный пьяный вечер откровения превратился в оружие против меня. Я сама вручила ему нити, которыми он теперь дергал, заставляя танцевать под свою дудку. Рука сама потянулась к ручке. Пальцы сжали её так, что хрустнули суставы. Я не смотрела на Джеймса, только на строки договора, расплывающиеся перед глазами от невыплаканных слёз. Подпись вышла размашистой, небрежной – клякса на репутации, печать добровольного рабства.
Он взял документ, бегло скользнул взглядом по последней странице. Ни тени триумфа, лишь ледяное удовлетворение солдата, получившего приказ.
– Работайте, – бросил он через плечо, уже отворачиваясь. – Время на исходе, а ошибки непозволительны.
Я осталась наедине с дрожью, сотрясавшей мое тело, будто в малярийном бреду. Белые перчатки на руках казались теперь кандалами. Золотая клетка, столь тщательно выкованная, наконец захлопнулась – и ключ был выброшен. Ни отсрочки, ни условного освобождения. Только бесконечная пыль древних фолиантов, всевидящие камеры и тяжелый взгляд надзирателя. А над всем этим – призрак Тейлора, размытый за дождевыми потоками на стекле, но оттого не менее реальный.
Пыль и пепел.
В этом теперь заключалась вся моя вселенная. Выход из нее вел лишь в небытие.
Но в самой глубине, под толщей отчаяния и страха, теплилась искра. Микроскопическая, почти неосязаемая, но неистребимая. Мысль о свободе не умерла – она лишь впала в спячку, как семя в вечной мерзлоте, сохраняя под ледяной коркой память о солнце. И ждала. Терпеливо и молча.
Глава 8: Игры в Тени
Дни, следовавшие за первыми шагами в особняке, были похожи на жизнь внутри идеально отлаженного механизма пыток. Каждое утро ровно в 8:45 черный внедорожник с тонированными стеклами, напоминающий движущийся склеп, появлялся у моего дома. Из него выходил человек в строгом темном костюме. Его звали Маркус. Высокий, поджарый, с каменным лицом и глазами цвета утреннего льда, которые видели всё и ничего не выражали. Он не здоровался. Просто открывал дверь машины и ждал, пока я сяду, словно была не человеком, а грузом. Дорога до особняка проходила в удушающей тишине, нарушаемой лишь монотонным шумом двигателя и нервным, учащенным биением моего сердца. Он провожал меня до самого порога библиотеки, где меня принимала уже знакомая безупречная тишина и ледяной взгляд Джеймса Диаса, уже ждущего за своим массивным столом.
Вечером повторялось то же самое, только в обратном порядке. Ни остановок, ни случайных разговоров – лишь неотступное чувство наблюдения, от которого невозможно было скрыться даже в собственном доме. Моя квартира, когда я возвращалась, больше не казалась убежищем – она превратилась в продолжение той же невидимой тюрьмы. Стены будто сжимались, истончались, становились проницаемыми для его незримого присутствия, и я ловила себя на мысли, что даже здесь, за закрытой дверью, он где-то рядом.
Куда можно было бежать? К кому обращаться? Все мои связи, скромные сбережения – всё это меркло перед его возможностями. Мир сузился до этих стен, до салона машины, до холодного великолепия его особняка. Порой мне казалось, будто я слышала шаги за дверью, или что в щели между жалюзи притаился чужой взгляд – может, это Маркус, а может, просто игра воображения, но страх был сильнее разума.
Я почти перестала брать в руки телефон. Однажды ночью, в отчаянной попытке почувствовать хоть какую-то связь с прежней жизнью, я потянулась к нему, чтобы написать Адаму – хотя бы одно слово, хотя бы намёк на то, что я ещё жива. Но пальцы замерли над экраном, будто между мной и клавишами лежал невидимый барьер. Каждое сообщение казалось прослушанным, каждый звонок – записанным. Даже мысль о коротком «Привет» вызывала волну паники, сжимала горло и заставляла сердце биться так громко, что, казалось, его слышно даже сквозь стены.
Диас купил не только моё время. Он отнял покой, приватность и само ощущение, что где-то ещё существует безопасность.
Работа над Псалтырем стала единственной реальностью, единственным островком хоть какого-то смысла в этом безбрежном море контроля. Но и этот остров оказался минным полем, каждый шаг по которому требовал предельной осторожности. Я счищала слои потемневшего лака, укрепляла крошащийся пергамент микрошпонками, подбирала оттенки утраченных красок с ювелирной точностью, почти с религиозным трепетом. Каждый шаг требовал сверхконцентрации и полного погружения. И каждый шаг сопровождался его присутствием.
Его шаги теперь чаще раздавались в библиотеке. Он подходил ко мне без предупреждения, возникая за спиной, как тень. Я чувствовала, как он наклоняется, заглядывая через плечо, его дыхание – ровное, почти бесшумное – касалось моей шеи тёплым потоком, и по спине рассыпались мурашки, будто под кожей пробежали десятки крошечных паучков.
Он задавал сухие вопросы. Казалось бы, ничего личного, только работа. Но в каждом слове, в каждой паузе перед ответом сквозила проверка. Это не была помощь. Это был допрос – изящный, почти вежливый, но от этого не менее беспощадный.
– Почему именно этот оттенок киновари? Обоснуйте.
– Рискнете укрепить этот участок шпонкой? Или предпочтете гель?
– Оцените временные затраты на восстановление этого инициала. С точностью до часа.
Он наблюдал не только за работой – он изучал меня.
Каждый мой жест, каждый вздох попадали под его неумолимый анализ. Он видел, как дрожат мои пальцы, когда я беру скальпель, замечал, как я закусываю нижнюю губу, когда сосредотачиваюсь, оставляя на ней едва заметные следы зубов. Считывал ритм моего дыхания – учащённое, когда я нервничаю, ровное и глубокое, когда погружаюсь в работу.
Я чувствовала себя словно под микроскопом, где исследуют не только древний пергамент, но и каждую мою эмоцию, каждую физиологическую реакцию. Он проверял не только мои профессиональные навыки – он тестировал мою устойчивость к стрессу, мою выдержку и мою преданность.
И вот однажды, когда я особенно долго работала над микроскопическим надрывом на краю страницы, стараясь с хирургической точностью нанести каплю реставрационного геля, я ощутила, как воздух вокруг сгустился.
Его тень накрыла стол, перекрыв свет.
– Вы дрожите, мисс Гарсия, – констатировал он. – Усталость? Нервы? Или… что-то еще? Недостаточная концентрация?
Я не ответила, сжимая кисточку так, что пальцы онемели. Внутренне боролась с желанием крикнуть, чтобы он отстал. Он молча протянул маленький пластиковый контейнер. Внутри лежали две идеально белые таблетки. Без опознавательных знаков, без намека на название или состав.
– Для концентрации, – пояснил он. – И для спокойствия. Примите.
Я посмотрела на таблетки, потом на него. В его глазах читалось только ожидание подчинения, и ледяная, не терпящая возражений воля. Внутри меня все протестовало, кричало от отвращения, но я уже была слишком сломлена, слишком истощена, чтобы сопротивляться. Горечь собственного бессилия стояла во рту, но я не могла ничего сделать.
Я протянула руку к контейнеру и, не задавая лишних вопросов, проглотила таблетки. Вода из стоящего рядом стакана обожгла горло ледяным холодом, хотя, казалось, должна была смягчить горечь. Через полчаса дрожь в пальцах утихла, а мысли внезапно прояснились. Они стали острыми, как скальпель, и такими же безжизненными. Я словно наблюдала за собой со стороны: страх растворился, оставив после себя странное спокойствие. Это было пугающе эффективно. Он не просто контролировал мои действия – он перестраивал мою химию, мой разум, методично стирая во мне все, что делало меня… мной.
Вечером, когда Маркус отвозил меня домой, в машине царила непривычная тишина. Не та тяжелая, гнетущая, а… пустая. Будто все звуки, все эмоции остались где-то далеко, за толстым слоем стекла. Я смотрела на размытые огни города, проплывающие за тонированным окном, и не чувствовала ничего. Ни страха, ни гнева, ни даже тоски. Только пустоту и остаточную, химическую ясность, которая делала мир плоским, как страница из старой книги. Дома я рухнула в кровать и провалилась в сон – тяжелый и бездонный, без снов и без мыслей.
На следующий день таблетки уже ждали меня на столе, аккуратно разложенные рядом с инструментами. И на следующий. И на следующий. Они стали частью ритуала. Частью системы. Он контролировал не только мое тело, не только мой маршрут – он регулировал мое сознание, мои эмоции и мою волю.
***
Однажды, когда сумеречный свет уже сливался с тенями, превращая мастерскую в подобие старинной гравюры, а мои пальцы с механической точностью выводили последние штрихи утраченного фрагмента нимба святого Луки, в дверях появились двое.
Диас вошел первым – его массивный силуэт на мгновение перекрыл поток желтоватого света из коридора. Но внимание сразу привлек второй человек – невысокий, ссутулившийся, словно постоянно готовый извиниться за свое существование. Его очки с толстыми линзами искажали глаза, делая их похожими на слепые пятна на бледном лице. Он держал в руках узкий металлический чемоданчик, холодно поблескивавший в свете ламп.
Я почувствовала, как в висках застучало – не страх, нет. Просто тело, вопреки химической апатии, распознало опасность.
– Мисс Гарсия, – голос Джеймса был ровным, но в нем появилась новая нота – что-то вроде делового интереса, лишенного личного. – Это доктор Эллиот. Он проведет оценку вашего текущего физического состояния. Проект вступает в критическую фазу. Мы не можем позволить сбоев из-за… переутомления или любых других факторов.
Доктор Эллиот поставил чемоданчик на свободный угол стола с такой осторожностью, будто размещал бомбу, и открыл его. Внутри лежали инструменты – слишком чистые, слишком точные и неестественно блестящие под матовым светом ламп. Хромированные щупы, датчики с тонкими иглами, пробирки с цветными маркировками. Ничего лишнего.
Он не улыбнулся, даже не кивнул – просто поднял взгляд, и его глаза за толстыми линзами на мгновение поймали отражение света, став двумя плоскими кругами белого.
– Пожалуйста, снимите перчатки и закатайте рукав.
Я замерла, ощущая, как внутренне сжимаюсь в комок. Осмотр? Здесь? При нём? Горячая волна стыда разлилась по телу, оставляя после себя ледяное чувство унижения. Казалось, даже воздух вокруг наполнился немым осуждением. Я чувствовала себя обнажённой, лишённой кожи, границ, всего, что могло хоть как-то защитить.
Мой взгляд самопроизвольно потянулся к Джеймсу. Он стоял чуть поодаль, скрестив руки на груди – его поза была спокойной, почти расслабленной, но в ней читалась та же бесстрастная внимательность, с какой он изучал редкие манускрипты. В его глазах не было ни капли смущения, ни тени сочувствия, а только холодный, аналитический интерес.
– Это… необходимо? – прошептала я, чувствуя, как кровь приливает к лицу.
– Крайне, – резко ответил Джеймс. – Ваше здоровье – ресурс проекта. Его нужно поддерживать в оптимальном состоянии. Доктор Эллиот лучший в своем деле. Он обеспечит это, ведь мы не можем рисковать.
Я медленно сняла перчатки. Мои пальцы – обычно такие послушные в работе с хрупкими пергаментами – теперь предательски дрожали, выдавая внутреннюю бурю, которую я отчаянно пыталась задавить. Каждое движение казалось неестественным, будто я разучилась управлять собственными конечностями.
Доктор Эллиот действовал, в свою очередь, с методичной точностью. Жгут на предплечье затянулся с мягким шуршащим звуком, кожа под его пальцами стала холодной и чужой после обработки антисептиком. Игла вошла резко – острое, внезапное вторжение, от которого перехватило дыхание. Но я не издала ни звука. Только ощутила, как по венам разливается жгучее унижение, параллельно с темной струйкой, наполняющей пробирку.
Он взял вторую пробирку. Потом третью.
Манжета тонометра сдавила руку, словно удавка. Яркий луч фонарика в глазах заставил мир на мгновение расплыться в ослепительном пятне.
– Глубоко вдохните.
И все это время я чувствовала на себе взгляд Джеймса Диаса, как будто я была редким экземпляром в его коллекции, который внезапно потребовал внеплановой реставрации. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что смотрю на свои руки, как на что-то отдельное от себя. На эти вены. На эту кожу. На эту кровь в пробирках.
Они превратили меня в инвентарный номер.
И самое страшное?
Это работало.
Я действительно начинала чувствовать себя вещью.
– Небольшая тахикардия. Повышенный уровень кортизола, – отчеканил доктор, убирая инструменты. – Показатели стресса на верхней границе нормы. Но функционал не нарушен. Рекомендую продолжать текущую фармакологическую поддержку и добавить легкий седативный препарат на ночь для улучшения качества сна.
Он достал из чемоданчика два флакона с белыми этикетками, где были набраны лишь цифры и буквенные коды. Поставил их рядом с привычными таблетками для концентрации.
– Дозировка указана. Не отклоняться.
Джеймс кивнул.
– Благодарю, доктор. Маркус отвезет вас.
Доктор Эллиот закрыл чемоданчик и вышел, не оглянувшись, словно его миссия была полностью выполнена. Джеймс подошел к столу, взял новые флаконы, рассмотрел их с той же отстраненной внимательностью, с какой он осматривал Псалтырь.
– Вы слышали рекомендации, – сказал он, ставя флаконы обратно. – Соблюдайте режим, ведь ваше благополучие имеет значение для успеха.
Мое благополучие было нужно ему, как смазка нужна шестеренкам машины, чтобы механизм не заклинило раньше времени. Он заботился не обо мне, а о своей цели: полностью контролировать каждый аспект моего существования.
После их ухода библиотека поглотила меня своей гнетущей пустотой. Тиканье старинных напольных часов, обычно едва различимое, теперь гулко разносилось под сводами, сливаясь с учащенным стуком моего сердца. Каждый звук отдавался в висках болезненным эхом.
Мой взгляд скользнул по оставленным на столе предметам: медицинским флаконам с бесстрастными этикетками, блестящим инструментам, аккуратно разложенным, будто для следующего использования. А там, среди этого холодного порядка, лежал лик святого Луки – завершенный, но внезапно ставший чужим. Его глаза, которые я так тщательно восстанавливала, теперь смотрели на меня с безмолвным укором.
В горле встал ком, а желудок сжался спазмом. Я вдруг осознала всю глубину своего падения: я не была здесь реставратором. Я была заключенной в позолоченной клетке. Подопытным кроликом. Живым инструментом в его безумной игре против Тейлора. Каждая моя мысль, каждое движение, даже воздух в легких – все принадлежало ему.
На шатких ногах я подошла к витрине, где за стеклом дремали древние фолианты. Их страницы, пожелтевшие от времени, все же оставались нетронутыми. В темном стекле отразилось бледное существо с впалыми глазами. Я не узнала это лицо. Призрак. Тень. Еще один экспонат в его коллекции.
Где-то в глубине души шевельнулось что-то теплое и человеческое – последний проблеск меня настоящей. Но он угасал с каждым ударом этих проклятых часов, отсчитывающих мое превращение в еще одну вещь в его кабинете редкостей.
«Мы сломанные механизмы. И наши шестеренки… могут сцепиться только друг с другом».
То, что когда-то звучало как признание родственных душ, теперь отдавалось в моих ушах смертным приговором. Мы оказались сцеплены в странном, болезненном симбиозе, а он стал одновременно и моей тюрьмой, и спасением, источником тех самых таблеток, что давали призрачное ощущение покоя и мнимого искупления. Я же для него была всего лишь инструментом, живым щитом против Тейлора и воплощением его амбиций. И выхода не существовало, только путь вперед, в пропасть, с драгоценным Псалтырем в руках и химической ложью, текущей по моим венам.
Именно тогда мой взгляд упал на массивный сейф, искусно встроенный в стену. Дверца была приоткрыта – едва заметно, но достаточно, чтобы привлечь внимание. Такая небрежность? У него? Это противоречило самой его сути, той безупречной точности, с которой он всегда действовал. Нет, это не могло быть случайностью. Это была ловушка, расставленная с холодным расчетом. Он ждал, наблюдал и предвкушал мой следующий шаг.
Я приблизилась, чувствуя, как адреналин разливается по телу ледяными волнами, как кровь стучит в висках, заглушая все другие звуки. Сердце бешено колотилось, когда я заглянула в узкую щель. Внутри, кроме ожидаемого синего бархатного ларца с Псалтырем, лежало нечто неожиданное – небольшая металлическая коробка с почти стершейся гравировкой. И рядом был современный пистолет, угрожающе черный, лежавший так естественно, будто был привычной частью этого места.
Оружие. Здесь, в святая святых его библиотеки, рядом с древним текстом, который он так яростно защищал. Что это значило? Какую связь имел этот пистолет с Псалтырем? С Тейлором? С той сложной игрой, в которую я оказалась втянута? Какие еще тайны скрывали эти стены?
Я понимала – это не было небрежностью. Не могло быть. Слишком уж очевидным, слишком провокационным выглядел этот «случайный» просчет. Это было послание. Вызов. Испытание моей преданности или, возможно, проверка моей решимости. Рука сама потянулась вперед, дрожа уже не от страха, а от внезапно вспыхнувшей ярости и жгучего желания докопаться до истины.
И в этот самый миг, когда пальцы уже почти коснулись холодного металла, в коридоре раздались шаги. Я отпрянула от сейфа, будто получила удар током, и в три прыжка оказалась у рабочего стола. Кисть в моих дрожащих пальцах выглядела жалкой маскировкой – я не могла даже ровно держать инструмент, не то что делать вид работы. Воздух предательски свистел в пересохшем горле, а сердце колотилось так, что, казалось, его стук слышен на другом конце особняка.
Дверь открылась. Он вошел, и пространство вокруг сразу же сжалось, наполнилось тем особым напряжением, которое всегда сопровождало его появление. Его взгляд сначала остановился на мне, затем медленно перешел к сейфу. К той самой приоткрытой дверце.
Но на его лице не дрогнул ни один мускул.
Спокойными, почти церемонными движениями он подошел к сейфу. Толкнул дверцу, и она закрылась с мягким щелчком, а затем повернул ручку замка. Металлический звук разнесся по библиотеке, как захлопнувшаяся ловушка.
– Что-то случилось, мисс Гарсия? – спросил он, поворачиваясь ко мне. – Вы выглядите… взволнованной.
– Нет, – выдавила я. – Просто… сложный участок. Устала.
Он подошел ближе, остановился напротив. Его тень накрыла меня и стол, поглощая свет.
– Усталость – враг совершенства, – произнес он тихо. – И враг нашего общего дела. Примите вечернюю дозу, точно по инструкции, и ложитесь спать.
Он посмотрел на часы.
– Маркус ждет вас у выхода. Не задерживайте его.
Он не спросил, видела ли я содержимое сейфа. Не стал ничего объяснять. Просто стоял, и это молчание было страшнее любых слов. В воздухе повисло новое напряжение, как предгрозовая атмосфера. Пистолет. Металлическая коробка. Что скрывалось внутри? Документы? Доказательства? Или что-то, что связывало его с Тейлором? Это было больше чем оружие – это оказалось ключом, разомкнувшим новый уровень в его опасной игре.
Когда Маркус отвез меня домой, я механически закрыла дверь на все замки, хотя прекрасно понимала: эти железные засовы бессильны против его всепроникающего контроля. На кухонном столе, как всегда, ждали аккуратно расставленные флаконы с таблетками для концентрации, для сна и для «спокойствия». Рука сама потянулась к вечерней дозе. Горький привкус растворился на языке, и я замерла в ожидании привычного химического забвения.
Но на этот раз облегчение не приходило.
Я лежала в темноте, и перед глазами стоял тот самый черный пистолет, резко контрастирующий с синим бархатом ларца. Его холодный блеск прорезал сознание, а в такт пульсу стучал вопрос: что еще скрывает этот особняк? Игра, в которую я оказалась втянута, оказалась многослойнее и опаснее, чем я могла предположить. Теперь я знала слишком много, и это знание жгло изнутри, не давая покоя.
Ирония ситуации была горькой: единственной защитой от этой опасной правды становились именно те таблетки, что превращали меня в послушную марионетку. Я зажмурилась, чувствуя, как химическая волна наконец накрывает сознание, но даже она не могла стереть образ того пистолета. Он стал символом новой реальности, реальности, где я была одновременно и заложницей, и соучастницей.
Пути назад не существовало. Только движение вперед – вглубь лабиринта, где древний Псалтырь служил щитом, а черный пистолет в сейфе напоминал о негласных правилах этой игры. О цене, которую придется заплатить за поражение. О той грани, за которой заканчивается притворство и начинается нечто настоящее, смертельное и необратимое…
Глава 9: Трещины во Льду
Химический туман стал моей новой реальностью. Мой мир сузился до блеска ламп над Псалтырем и холодной ясности, которую дарили таблетки, а утренняя доза приносила острый укол бритвенной ясности. Я видела каждую пылинку, каждый изгиб пергамента с нечеловеческой четкостью, но не чувствовала ничего, кроме этой самой четкости. Мир обрел плоские очертания, а вечерняя доза приносила тягучее забвение – глубокую бездну без сновидений, куда я проваливалась, не оставляя следов. Я превращалась в идеальный инструмент, безупречно выполняющий свою функцию: руки были тверды, взгляд сфокусирован, а страх загнан в дальний угол подсознания, придавлен фармакологией, но не уничтожен. Лик евангелиста Луки под моими руками расцвел, обретая былую глубину и кротость, а золото нимба засияло, словно только что нанесенное. Это было чудо, сотворенное руками узницы, чей разум висел на химических нитях.
Джеймс наблюдал постоянно, а я, в свою очередь, научилась распознавать его приближение по едва уловимому изменению воздуха, по специфическому ритму дыхания, который становился чуть слышнее за моей спиной. В последнее время он появлялся в библиотеке чаще, а его размеренные шаги раздавались несколько раз в час, будто он проверял, запоминал и фиксировал каждый мой жест.