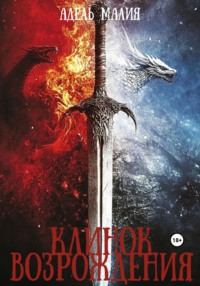Полная версия
Падение в твою Пустоту
– Условия неизменны в своей основе. Абсолютная концентрация в отведённое время. Беспрекословная осторожность. Ваш рабочий день здесь – строго с девяти утра до шести вечера. В эти девять часов вы принадлежите исключительно Псалтырю и моим правилам. Малейшее отклонение от указаний, любой несанкционированный контакт с внешним миром в стенах особняка в рабочее время… и проект для вас будет завершён. За этими стенами, после шести вечера – ваше личное время. Но помните: абсолютная секретность. Ни единого слова о сути работы и о клиенте. Никаких «случайных» упоминаний в разговорах, намёков в соцсетях и перешёптываний со знакомыми.
Он сделал паузу, а его глаза впились в меня, словно сканируя на предмет малейшей слабины.
– Ваша компенсация за безупречное молчание и высочайшее мастерство, – он назвал сумму. Цифра была настолько баснословной, что у меня физически перехватило дыхание, а сердце ёкнуло, – будет выплачена единовременно по успешному завершению проекта. Рассматривайте это как… весомый стимул к безукоризненному исполнению обязанностей. Но я интуитивно полагаю, мисс Гарсия, что для вас главной наградой является сама возможность вернуть к жизни эту красоту. Деньги – лишь приятный, хотя и существенный, бонус к профессиональной славе реставратора, справившегося с, казалось бы, невозможным. Не ошибаюсь?
Я подняла взгляд и встретила его глаза. Он был чертовски прав – плата была лишь цифрой на бумаге, абстракцией. Но возможность спасти это, прикоснуться к этой вечности, доказать себе и тени отца, что я могу – вот что заставляло кровь бежать быстрее. Но его тотальный, безусловный контроль над моим временем здесь, его спокойная уверенность, что он купил не только мои навыки, но и мою дисциплину до минуты, мою покорность, – вот это зажгло во мне ту самую крошечную искру возмущения. Моё сердце колотилось. Согласиться на полную изоляцию, на этот тотальный контроль, казалось безумием; моя интуиция кричала об опасности. Но что, если это был единственный шанс? Единственный способ сбежать от повседневной рутины, от взглядов Сьюзен, от вечной пыли Архива, что напоминала о моих ошибках? Единственный шанс доказать, что я способна на великое? Я знала, что буду тосковать по своему обычному миру, но желание очиститься, доказать свою ценность, было сильнее.
Он приподнял крышку ларца плавным движением, словно открывая доступ к величайшей святыне.
Воздух вырвался из моей груди со смесью восторга и священного ужаса. Даже израненный временем, «Псалтырь» был потрясающим. Толстый блок пергаментных листов, потемневший до глубокого охристого оттенка, с язвами плесени, чёрными пятнами влаги, надрывами по краям, местами осыпавшимся золотым обрезом. Но на тех страницах, что ещё сохранили целостность… Миниатюры. Фоны небесной лазури, утратившие яркость, но хранящие глубину; плащи святых – капли застывшей, потускневшей, но всё ещё живой киновари; нимбы, орнаменты, инициалы – золото, пробивающееся сквозь вековую грязь, и утраты, излучающее немеркнущий свет, казавшийся почти неземным в этом сером дне. Лики ангелов, едва различимые под слоем потемневшего лака и повреждений, но дышащие такой чистотой и кротостью, что щемило сердце. Это было… чудо. Искалеченное, умирающее, но дышащее. И оно взывало ко мне. К моим рукам. К моей надежде.
Профессиональный трепет пронзил меня насквозь, на мгновение вытеснив страх, клаустрофобию и давление его присутствия. Моя рука, будто помимо воли, потянулась вперёд, жаждая коснуться пергамента, ощутить его фактуру, оценить масштаб разрушений, начать немой диалог с этой древней болью. Я с силой сжала пальцы в кулак, впиваясь ногтями в ладонь. Он наблюдал: его ледяные глаза неотрывно фиксировали каждую микротрещинку на моём лице, каждую дрожь ресницы, каждый микросдвиг мышц вокруг рта. Он читал меня как открытую книгу.
– Он… невероятен, – сорвалось с моих губ едва слышным шёпотом.
Джеймс приблизился ещё на шаг. Запах сигары, холодного металла и его изысканного парфюма сгустился вокруг меня, образовав дурманящее облако, и по спине пробежали ледяные мурашки. Его палец указал на конкретную миниатютуру – ангела со склонённой головой, чей лик был наполовину стёрт временем, а одно крыло разорвано глубокой трещиной.
– Начните с него. Детальнейшая оценка всего ущерба, микроскопическая фиксация и полный отчёт к пяти вечера. Также предложите методологию реставрации и оцените сроки. Ни шага в сторону без моего явного одобрения и никакой самодеятельности.
– Я осознаю условия, мистер Диас, – прозвучал мой голос, удивительно ровный и спокойный в собственных ушах, несмотря на бешеный стук сердца где-то под рёбрами. – Моя единственная цель здесь – Псалтырь. Ваши правила в отведённые вами часы будут соблюдены неукоснительно. Молчание – нерушимо. Остальное – несущественные детали.
– Прекрасно, – он отступил на шаг, его внимание уже скользнуло к бумагам на массивном столе, что было ясным сигналом, что аудиенция окончена. – Ваше время пошло, мисс Гарсия. В пять вечера я жду отчёт. Не разочаруйте меня.
Я осталась одна у белого стола, остро ощущая тяжесть чётко очерченных границ. Золотая клетка с таймером. Но передо мной лежала вечность. Израненная, но живая.
Я натянула тончайшие белые хлопковые перчатки. Пальцы оказавшись внутри них стали тверды, а дрожь ушла. Щелчок выключателя – яркий, сфокусированный луч лампы выхватил из полумрака страницу с ангелом, его стёртый лик и разорванное крыло. Мир сжался до этого клочка древней кожи, до каждой микротрещинки, до каждой утраченной частички пигмента.
Вне этих каменных стен, после шести, будет существовать другая Ева. Обычная и свободная. Но здесь и сейчас, до самого вечера, она принадлежала только ему, этой книге и тихой ярости своего мастерства.
Глава 3: Золотая Клетка с Таймером
Призрак Джеймса Диаса витал повсюду, окутывая каждый уголок этой мраморной тюрьмы даже в его отсутствие.
Я стояла у белого стола, чувствуя, как холод идеальной поверхности проникает сквозь тонкие хлопковые перчатки. Мои пальцы, обычно чуть дрожащие от напряжения, здесь были твёрды и послушны. Это место требовало абсолютной концентрации, и мой организм, кажется, инстинктивно подстраивался, отсекая лишние эмоции. Ангел под линзой мощной лампы был трагичен: лик стёрт, крыло разорвано трещиной, а золото нимба осыпалось. Микроскоп открывал лунный пейзаж пергамента: кратеры утрат, горные хребты трещин, высохшие реки чужого, варварского клея. Каждый дефект – крик боли, эхо чужой ошибки. «Не моей, – подумала я с внезапной ясностью. – Пока нет». Эта мысль несла в себе горькую правду о моём прошлом, но здесь, в этом стерильном свете, она звучала как вызов, как обещание, что именно эту ошибку, в этот раз, я не допущу.
Я выпрямилась, убирая планшет с зафиксированными повреждениями и предварительными схемами реставрации, когда услышала лёгкий, едва различимый щелчок где-то вдалеке. Почти сразу же послышались шаги. Твёрдые, размеренные, но с едва уловимым сбоем ритма. Он вошёл из коридора, откуда я и пришла. Должно быть, он наблюдал за мной, возможно, даже ждал, когда я завершу свой первый осмотр. Эта мысль вызывала лёгкую дрожь, но одновременно и странное ощущение признания моей работы. Диас был без пиджака, в белой рубашке с расстёгнутым воротником, что делало его чуть менее формальным, но парадоксально – не менее, а может быть, даже более угрожающим. Его лицо было непривычно бледным, а глаза – яркие и острые, с напряжённой искрой внутри. Глубокая тревога, закованная в сталь, читалась в каждом его движении, в каждой черточке лица.
– Прогресс, мисс Гарсия?
Я отвела взгляд от микроскопа, стараясь не вздрагивать. Хоть я и привыкла к его внезапным появлениям, его давящее присутствие всё ещё ощущалось остро.
– Детальная фиксация завершена. Ангел требует немедленного вмешательства. Крыло на грани отрыва. Предыдущий клей – животный, XIX века, низкого качества – лишь усугубил ситуацию: кристаллизовался, стал хрупким. Любая вибрация или неосторожное движение… – Я протянула планшет, демонстрируя трёхмерные сканы и инфракрасные снимки повреждённых участков, полный отчёт с обоснованием методологии и оценкой времени, необходимого для каждого этапа.
Он взял устройство и приблизился к своему столу, откинувшись спиной к его краю, погрузившись в чтение. Его взгляд скользил по экрану с поразительной скоростью, но без видимого выражения. Я стояла, наблюдая. Минуты тянулись, каждая из которых казалась бесконечной в этой напряжённой тишине. Запах озона сгущался вокруг него, становясь почти осязаемым, будто воздух вокруг него ионизировался от невидимого электрического поля.
– Четырнадцать часов тридцать минут, – произнёс он наконец, поднял глаза, и в его голосе проскользнуло недоверие и усталость. – На один фрагмент. А весь Псалтырь? Это месяцы работы, мисс Гарсия. Возможно, даже год, если следовать вашей скрупулёзности. Вы осознаёте масштаб?
– Осознаю, но спешка – гарантированная гибель для пергамента в таком состоянии. Это не конвейер, а микрохирургия на грани невозможного. Каждый этап требует просушки, проверки и стабилизации. Вы наняли меня не для скорости. Вы наняли для шанса спасти безнадёжное. Этот шанс требует времени и терпения. Беспрецедентного.
Он замер, а в его глазах я увидела некий внутренний расчёт, словно он прикидывал невидимые переменные. Взгляд скользнул по моим рукам в перчатках, замершим в ожидании, затем по самому Псалтырю на столе, словно он пытался оценить не только мою работу, но и само время, которое я требовала. Его собственные пальцы слегка сжали край планшета, и костяшки на мгновение побелели.
– Терпение – роскошь, которую не всегда можешь позволить. Особенно когда за твоей спиной стоит человек, для которого сроки – не абстракция, а вопрос выживания. Его разочарование измеряется не в утраченных фрагментах пигмента, а в очень конкретных, очень болезненных единицах. Для него и для тех, кто с ним связан. У нас есть примерно шесть месяцев, мисс Гарсия.
Шесть месяцев. Это не просто сокращало сроки, это делало мою задачу практически невыполнимой. Человек за спиной – конкретный, опасный. Страх шевельнулся где-то глубоко, пытаясь сковать лёгкие, но был тут же подавлен волной профессионального любопытства и… вызова. Это была не просто работа, это была игра, ставка в которой, как выяснилось, была невероятно высока. Я не отводила взгляда.
– К чему такая спешка, сэр? – спросила я прямо, не давая страху взять верх. – Если цель – не уничтожить то, что пытаешься сохранить, то почему такие жёсткие рамки? Я должна понимать риски, для книги. И для себя.
Джеймс Диас смотрел на меня долгим, непроницаемым взглядом. Он взвешивал меня, мою дерзость, возможные последствия такой откровенности. Холодная расчётливость вытеснила всё остальное из его ауры, оставляя лишь некий хищный и внимательный покой. Его глаза были похожи на два ледяных озера, отражающих только моё собственное выражение.
– Кто этот человек, который диктует темп спасению шедевра? – произнесла я, наконец осмелившись.
– Уилсон Тейлор, – имя прозвучало как звук надвигающейся бури. – Через полгода ожидается крупная выставка, на которой должен быть представлен «Псалтырь». Учитывайте, что он не ценитель красоты, мисс Гарсия. Он – инвестор. Человек, вкладывающий не в искусство, а во власть. Во влияние. Он не просто требует результатов, он калечит за их отсутствие или, что хуже, они остаются в таком состоянии, что предпочли бы исчезнуть. «Псалтырь» для него – не святыня. Это актив. Высокорисковый, высокодоходный актив, который должен быть приведён в презентабельное состояние к строго оговоренной дате. И сроки для него высечены не в календаре, а в плоти тех, кто их нарушил. Тейлор не прощает ни просрочек, ни ошибок. Его понимание «компенсации» выходит далеко за рамки финансов. Он измеряет её болью и кровью. Он требует совершенства и немедленных результатов любой ценой. Ясна ли вам теперь истинная цена промедления? Цена… ошибки?
Последняя фраза повисла в воздухе, густая и тяжёлая, как смог. Его стальные глаза впились в меня, ожидая не столько испуга, сколько всеобъемлющего понимания. Холодная ярость сжала горло – за книгу, за себя, за это извращённое отношение к сокровищу. Меня вдруг охватило острое чувство несправедливости, и я продолжала держать взгляд Диаса, не отступая.
– Ясна. Цена ошибки – гибель того, что мы пытаемся спасти. И это касается не только ангела. – Я кивнула в сторону Псалтыря, лежащего в ларце, его повреждения казались теперь ещё более вопиющими. – Значит, Тейлору нужен не шедевр, а товар. И наша задача – превратить хрупкую вечность в… презентабельный актив в срок. Без права на ошибку.
Уголок его рта дрогнул, но это была не улыбка. Скорее тень… уважения? Или признание общего врага в лице этого Тейлора? Это было что-то новое в его обычно непроницаемом выражении лица.
– Именно так, – подтвердил он сухо. – Ваша методология утверждена. Но сроки… – он снова взглянул на планшет, а затем на меня. – Мы должны найти способ ускорить процесс, мисс Гарсия, не жертвуя качеством. А пока…
Он отодвинул планшет в сторону. Напряжение в его плечах чуть спало, но он сохранял абсолютный контроль.
– Четырнадцать часов тридцать минут. Начинайте завтра. – Его взгляд скользнул к ангелу под лампой, к его разорванному крылу. – Спасите ему крыло, мисс Гарсия.
Он развернулся и вышел, не проронив больше ни слова и оставив меня стоять у стола с отчётом, с ангелом, требующим спасения, и с именем Уилсон Тейлор, навсегда впечатанным в сознание.
Я сняла перчатки, чувствуя, как пульсирует кровь в кончиках пальцев: дрожь была от адреналина и от осознания игры, в которую ввязалась. Золотая клетка с таймером стала полем боя. Теперь я знала врага – невидимого, всесильного и безжалостного. И своего тюремщика, Джеймса Диаса, оказавшегося не только надсмотрщиком, но и капитаном на тонущем корабле, который сам боролся за выживание. Это знание совсем не утешало меня, но давало ясность.
Я посмотрела на разорванное крыло ангела, лежащее в свете реставрационной лампы. Тень Тейлора легла на белый стол, но теперь она не парализовала, а мобилизовала. Мой страх перед Джеймсом Диасом растворился, уступив место сложному коктейлю из профессиональной ярости, вынужденного союзничества и леденящего осознания опасности, которую он назвал по имени. Впервые за долгое время я чувствовала себя не жертвой, а участником. Пусть пешкой в чужой игре, но пешкой, которая могла нанести удар. И я сделаю всё, чтобы этот удар пришёлся точно в цель – спасти Псалтырь, несмотря ни на что.
Глава 4: Трещины в Броне
Запах сигарет Джеймса Диаса стал частью воздуха библиотеки, таким же постоянным, как пыль и терпкий аромат воска. Я вдыхала его, работая над Псалтырем, ощущая его незримое, но всепроникающее присутствие, словно он был призраком этой каменной крепости. Мои дни были выверены до секунды: ровно в девять врата – не то ада, не то спасения – открывались, и безупречный дворецкий провожал меня в святилище, где я исчезала до шести.
Особняк дышал холодом Джеймса. Мрачный, подавляющий, скрывающий свои тайны за непроницаемыми стенами. Я почти не видела хозяина. Иногда он возникал в дверном проёме, как статуя, вырезанная из арктического льда. Его взгляд скользил по мне, по Псалтырю, по инструментам, оценивая прогресс, контролируя всё до мельчайшей детали. В эти моменты я чувствовала себя безупречным механизмом, чьи винтики должны вращаться без сбоев. Он никогда не говорил лишнего: «Отчёт к пяти», «Сроки сжимаются», «Совершенство – не роскошь, а необходимость». Я не искала диалога. Моё искупление лежало на столе, под лампами, в крошечных фрагментах спасённого золота и киновари.
Я погрузилась в Псалтырь, как в пучину. Я вернула ангелу крыло – кропотливый труд микрохирурга, миллиметр за миллиметром. Теперь я боролась с тёмными пятнами на лазурном фоне небес. Часы сливались в недели. Временами мне казалось, что я растворяюсь в этом древнем мире, становясь его частью и его немым защитником. Это было искуплением. Но каждая восстановленная миниатюра напоминала о цене: моя жизнь за стенами крепости превратилась в призрак. Мир сузился до белого стола, увеличительных линз и вечной тени Тейлора.
Однажды вечером, когда сумерки уже крали краски из-за высоких окон, он вошёл. Резкий, обжигающий запах виски ударил в нос, перебив привычные ароматы библиотеки. Это был Джеймс, но совершенно другой. Без пиджака, воротник рубашки расстёгнут, а галстук болтался, как петля. Лицо – пепельная маска, глаза – налитые кровью озёра, в которых бушевал неконтролируемый шторм. Он был пьян. Раненый зверь, сорвавшийся с цепи собственного железного контроля.
– Мистер Диас, с вами всё в порядке?
Мои пальцы впились в полированную кромку стола, будто ища спасения. Холодная волна узнаваемого ужаса подкатила к горлу – тот самый страх, что сопровождал всё моё детство, пахнущий дешёвым виски и мужской яростью. Он двигался к шкафу с механической точностью, извлёк хрустальный стакан и бутылку с густым, тёмным, как кровь, виски. Налил до краёв, одним движением опрокинул в себя и тут же налил новую порцию. Его голос, когда он заговорил, был низким и рваным.
– Тейлор… – он выдохнул это имя, и оно повисло в воздухе отравленным облаком. – Дышит в спину каждую секунду, словно стервятник, кружащий над добычей, которую чует, но не может пока клюнуть. Времени… Времени совсем не осталось. Воздуха не хватает.
Он отвернулся к ночному окну, в которое хлестал ливень. Спина, всегда прямая и неуступчивая, сгорбилась под гнётом незримой, но невыносимой тяжести.
– Они все уходят. Предают. В конце концов. Даже если запереть их здесь… в этих проклятых, непробиваемых стенах.
– Кто… «они»? – прошептала я, почти не осознавая своего вопроса.
Он медленно обернулся. Взгляд был затуманен алкоголем, но сквозь эту пелену проступало нечто иное – бездонная тоска и одиночество, которое точило его изнутри, оставляя лишь пустую скорлупу.
– Мои родители не погибли сразу. После… той аварии. Отец был гениальным хирургом, но аморальным дельцом. Основал сеть частных клиник. После аварии – овощ. Требовал дорогостоящего ухода в спецучреждении. Мать… она разбиралась в искусстве. Помогала отцу с инвестициями и горела изнутри. Она знала об его изменах. Сначала отчаяние, медленное угасание. А потом… они сбежали. Продали Тейлору свои доли в клиниках за бесценок, пока я был в школе. На те деньги… они пытались купить себе шанс в Швейцарии. Экспериментальное лечение. Бросили меня, шестнадцатилетнего, на растерзание «опекунам», которых нанял Тейлор и которые методично разоряли остатки империи. Первое время родители откупались от своей… обузы, от меня. Мне потребовались годы, чтобы собрать по крупицам эту правду. Каждый фрагмент, каждый документ – я вырывал его из когтей забвения. Я узнал, что они умерли там через два года. Они выбрали свою жалкую свободу, предали и оставили одного.
Тишина повисла густая, пропитанная болью и виски. Его слова, его раскрытая рана эхом отозвались в моей собственной бездне вины. Это было слишком знакомо. Инстинкт, сильнее страха, заставил меня ответить:
– Вы не были обузой, – я встретила его воспалённый взгляд. – Они предали не вас. Они предали себя. Свою любовь и своё право называться родителями. Вы не были виноваты.
Он вздрогнул, словно от удара током. Мои слова, сказанные с такой убеждённостью, пронзили алкогольный туман. Он качнулся, потеряв равновесие. Я не думала. Просто шагнула вперёд, подхватив его под локоть. Тело было тяжёлым и горячим, пропитанным виски и отчаянием. Без слов, я повела его к массивному кожаному креслу у холодного камина. Он рухнул в него, откинув голову и прикрыв глаза рукой.
Тишина снова сгустилась, но теперь она была другой. Напряжённой, заряженной слишком большим откровением. Я стояла рядом, не зная, уйти или остаться. Он открыл глаза. Ледяная синева была затуманена болью и… вопросом.
– Почему ты? Почему ты такая? – Он неопределённо махнул рукой в сторону стола, Псалтыря. – Поглощённая… этим. Пылью. Тишиной. Словно за этими стенами… для тебя ничего нет. Разве у тебя… нет жизни? Вне этого?
Вопрос вонзился прямо в сердце. В эту странную, хрупкую минуту взаимного обнажения ложь была невозможна и не нужна.
– Нет, – выдохнула я, и слово прозвучало как приговор самой себе. – Моя «жизнь»… похоронена там же, где и репутация моего отца. Он был реставратором. Лучшим. Одна ошибка на глазах у всех сломала его. А я… – Я сглотнула ком в горле. – Я была причиной. Дёрнула его за рукав в тот роковой момент. Попросила показать книгу поближе. Его рука дрогнула… и Тернер… Я убила отца своей глупостью, своей потребностью быть ближе к его миру.
Я замолчала, осознав, что только что вручила ему отточенный кинжал – свою самую страшную тайну, своё самое глубокое проклятие.
Он смотрел на меня из глубины кресла. Алкогольная мгла в его глазах медленно рассеивалась, сменяясь острым осознанием. Он медленно поднялся. Казалось, что каждое движение давалось ему с усилием, но в нём чувствовалась сфокусированная сила. Он сделал шаг ко мне. Я инстинктивно отступила, наткнувшись спиной на холодную столешницу.
– Так вот оно… – Его взгляд упал на Псалтырь, на аккуратно уложенные инструменты, а затем на мои руки. – Даже спасая, ты несёшь разрушение, и чтобы ты ни делала, твоё прикосновение несёт гибель.
Его слова ударили с такой силой, что перехватило дыхание. Леденящее подтверждение моего самого страшного кошмара. Страх, смешанный с яростью от этой жестокой правды, обжёг мне лицо. Он поднял руку. Длинные пальцы, холодные и дрожащие от напряжения, коснулись моей щеки. Прикосновение было странным – не нежным или агрессивным, а исследующим, как будто он проверял реальность моего существования. Потом его пальцы сжались, приподнимая мой подбородок и заставляя встретить его взгляд. Голубые глаза, теперь пугающе ясные, смотрели прямо в мои, в самую душу.
– Но ты не уйдёшь, – произнёс он тихо, и в этой тишине звучала железная воля. – Ты останешься здесь, потому что ты знаешь, как и я. Мы не можем иначе. Мы сломанные механизмы. И наши шестерёнки, – он сделал едва заметную паузу, – могут сцепиться только друг с другом. Чтобы хоть как-то продолжать двигаться в этом аду.
Он резко отпустил меня и отвернулся. Его плечи напряглись, спина выпрямилась с усилием. Он не посмотрел больше ни на меня, ни на Псалтырь. Просто зашагал к двери, походка была чуть неуверенная, но решительная. На пороге он остановился, не оборачиваясь.
– Завтра в девять. Не опаздывай.
Дверь закрылась за ним бесшумно. Я осталась одна, прижавшись к столу, всё ещё чувствуя холод его пальцев на коже.
Я сняла перчатки. Руки дрожали не только от страха, но и от шока откровения. От осознания, что он видит меня, видит моё проклятие. И принимает его как часть сделки, как часть этого странного, извращённого союза в тени Тейлора.
В кармане дрогнул телефон. Я достала его, будто очнувшись от сна. Сообщение от старого друга Адама. Осколок прошлой, нормальной жизни.
«Как дела? Совсем пропала! Всё ок?»
Я уставилась на экран. Мир за стенами особняка казался плоским, ненастоящим картоном. «Нет жизни вне этого», – эхом отозвались его слова. И вдруг возникло жгучее желание доказать обратное. Себе? Ему? Хотя бы намекнуть, что я не полностью принадлежу его крепости.
Пальцы дрожали, когда я набирала ответ:
«Жива. Работаю. Как ты?»
Ответ пришёл почти мгновенно, наполненный привычной теплотой:
«Ева! Рад слышать! У меня всё супер! Выныривай как-нибудь, давно не виделись! Расскажешь про свои древние книжки?»
Я прочитала его. Простая забота, обычная жизнь. Что-то в груди сжалось – тоска по чему-то давно забытому. По «Еве», а не по «Мисс Гарсия», винтику в машине Диаса. По возможности просто уйти, но я была здесь у белого стола. С Псалтырем, с моей виной, с его тенью и с нашим хрупким перемирием, скреплённым взаимным признанием в сломленности.
«Не уйдёшь», – эхом прозвучало в тишине библиотеки. Я положила телефон обратно в карман, не отвечая. Но зерно было посажено. Желание расслабиться, пусть на мгновение, зашевелилось где-то глубоко внутри.
Глава 5: Занавес Дождя
Утром я проснулась с ощущением вчерашнего прикосновения на щеке, словно клеймо холодных пальцев всё ещё тлело на коже, и горечью виски на языке – воображаемой, но оттого не менее реальной, отравляющей каждую клеточку. Воспоминания о его пьяном откровении, о моём собственном признании, о той ледяной силе, с которой он заявил «Ты не уйдёшь», висели в воздухе комнаты, словно невидимая пыль, мешающая дышать. Телефон безмолвствовал, и его тишина казалась упрёком. Мир за окном, расплывчатый в пелене дождя, казался нереальным, словно его можно было стереть одним движением. Я надела самое обычное тёмное платье, не глядя в зеркало – незачем было видеть ту Еву, что была заперта внутри этих стен.
Дорога к особняку Диаса в такси была мукой, каждым поворотом серпантина приближая меня не просто к зданию, а к крепости, к его власти, к нашему странному пакту сломленных душ. Камни стен казались тяжелее обычного, кипарисы – мрачнее. Дворецкий встретил меня у дверей. Его безукоризненная маска ничего не выражала, но воздух вокруг него казался наэлектризованным, словно он сам поглощал и удерживал напряжение минувшего вечера. Эхо вчерашнего витало в стерильных коридорах, отзываясь в каждом скрипе мрамора под моими шагами.