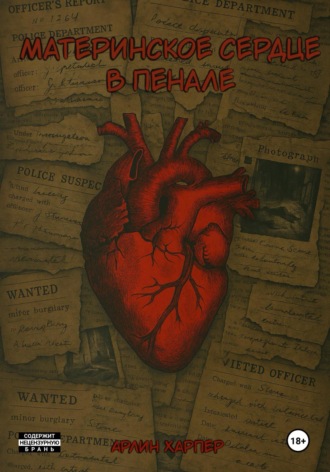
Полная версия
Материнское сердце в пенале
– Семь ран.
Вольф провел пальцем по снимку, останавливаясь на каждой отметине:
– Шесть – хаотичных. Рваные края, разная глубина, следы борьбы. Первый удар в живот. Второй в грудь. Третий, четвертый, пятый куда попало. Шестой… – его палец замер над последней, седьмой раной. – А вот это… – Тонкая, почти хирургическая линия на горле. – Посмертная.
Санчес наклонился ближе:
– Как будто его подчистили.
Вольф кивнул:
– Убийца дал волю эмоциям. А потом взял себя в руки. – Он откинулся назад, в глазах вспыхнуло понимание. – Он убеждался.
– Что? – Санчес нахмурился.
– Что Джошуа мертв. Шесть ран – это правда. Гнев. Ненависть. Может, даже страх. Потом контроль.
– Одно только не сходится – задумчиво произнес Ирвин, потирая ладонью затылок – Там такой кровавый след тянется по всему коридору, то ли его тащили, то ли…
– Не тащил его никто – наконец подал голос Морроу, щелкая ручкой. – Ты чем вообще смотришь?
Вольф замер с очередной сигаретой на полпути ко рту. Пепел осыпался на фотографию, будто серая пыль на фреску насилия.
– Сам пришел. – Морроу щелкнул ручкой еще раз, нервный, резкий звук, будто отсчет последних секунд перед взрывом. – Следы крови не линейные. – Он ткнул ручкой в снимок. – Капли веером. Мазки на стене. Отпечаток ладони у дверного косяка. Он шел.
– То есть… – Санчес резко вдохнул.
– Боролся. Получил первые удары. Упал. Потом встал.
Он перевернул страницу – фото Джошуа крупным планом. Сломанный нос. Синяки на костяшках.
– Оборонительные раны на руках.
Ирвин присвистнул:
– Нападал в ответ?
– Пытался. – Морроу щелкнул ручкой в третий раз. – Но шестой удар – под ребра, вот здесь – сделал свое дело.
Эдриан отодвинул фотографии и вдруг ухмыльнулся. Жестко, без удовольствия:
– Наш убийца оплошал. Джошуа заставил его немного понервничать.
***
Доктор Андерсен стоял у больничного подъезда, затягиваясь сигаретой так глубоко, будто пытался втянуть в себя не только дым, но и предрассветный холод. Сорок пять лет по паспорту. На вид все пятьдесят пять, если не больше. Время будто текло по нему быстрее, оставляя следы не годов, а бессонных ночей у операционного стола, тревожных ожиданий в лифтах реанимации, бесконечных смен, сливающихся в одну долгую вахту.
Высокий, под метр девяносто, он когда-то, наверное, казался богатырем. Широкие плечи, тяжелые, налитые силой руки. Но теперь его силуэт напоминал скорее медведя, вышедшего из спячки не в срок, мощь еще чувствовалась, но уже придавленная невидимой тяжестью. Спина слегка сгорблена, будто под грузом невысказанных слов, а пальцы, привыкшие вправлять кости и накладывать швы, слегка дрожали, зажимая фильтр сигареты.
Лицо будто карта, испещренная морщинами не от смеха, а от молчаливого напряжения. Глубокие складки у рта, будто прочерченные карандашом – следствие сжатых зубов в моменты, когда приходилось принимать решения за долю секунды. Мешки под глазами, синеватые и плотные, как старые кровоподтеки. А сами глаза серо-голубые, уставшие, но цепкие. Взгляд человека, который уже двадцать лет подряд видит людей на грани и потому разучился удивляться.
Но самое странное – в этом изможденном теле все еще жила сила. Не та, что бросается в глаза, а глубокая, притихшая, как пружина, сжатая до предела. Когда он двигался, чувствовалось, что каждое его действие. Точное, выверенное. Руки, несмотря на дрожь от усталости, все еще помнили, как держать скальпель. Плечи, хоть и ссутуленные, несли в себе упрямую готовность выдержать еще одну ночь, еще один кризис, еще одну попытку смерти забрать своего.
Он докурил сигарету, раздавил окурок под ботинком и потянулся к двери – обратно, в свет больницы, в гул аппаратов, в мир, где его ждали. Где он, несмотря на морщины, дрожь в пальцах и вечную усталость в глазах, все еще был тем, кто стоял между жизнью и смертью.
Его гардероб был продолжением характера. Без излишеств, без показного блеска, только суровая практичность, выстиранная до мягкости временем. На работе синие хирургические костюмы, одинаковые, как близнецы, с желтоватыми разводами от дезинфекции и вечными кофейными пятнами на груди. В кармане вечно торчала ручка без колпачка, оставляющая синие подтеки на ткани, словно вены на изможденных руках.
Дома его одежда обретала какую-то трогательную усталость. Растянутые свитера с вылезшими нитками по швам, джинсы, которые давно следовало бы отправить на покой, но они цеплялись за жизнь, как и их хозяин – потертые на коленях, с оторванным карманом, но все еще удобные, все еще свои. Жена периодически совершала набеги на его гардероб, пытаясь выбросить эти «тряпки», но он неизменно вылавливал их из мусорного ведра с упрямой настойчивостью хронического больного, отказывающегося сдаваться.
И они действительно были удобными. Как и все в его жизни – выстиранное до мягкости, привычное, не требующее лишних мыслей. В конце концов, когда твой день измеряется не часами, а спасенными жизнями, последнее, о чем хочешь думать – это модный крой брюк.
Травма детства у Маркуса Андерсена была не метафорической, а самой что ни на есть буквальной. Хруст кости младшей сестры, падающей с яблони во дворе, ее пронзительный крик, разлетающийся по деревенской улице, и последующее долгое, мучительное выздоровление.
Кость срослась криво, оставив девочку с легкой, но неизгладимой хромотой – вечным напоминанием о некомпетентности пьяного фельдшера, который принимал их на кухне среди немытой посуды.
– Я бы исправил это, – сказал тогда двенадцатилетний Маркус.
Отец, усталый фермер с потрескавшимися от земли руками, лишь фыркнул, вытирая ладонью усы:
– Ты? Да ты даже царапину заклеить не можешь.
Этот смех, грубый и безнадежный, стал первой нитью в хирургический узел, затянувшийся вокруг жизни Маркуса.
Прошли годы. Деревенский мальчишка, не знавший, как подступиться к медицинским учебникам, превратился в студента, затем в ординатора, потом в хирурга с руками, которые не дрожали даже после двенадцатичасовой операции.
Через семь лет после начала практики к нему на стол попал тот самый фельдшер. Аппендицит, ничего серьезного. Старик даже не узнал Маркуса, а тот и не напоминал. Просто сделал свою работу. Чисто, профессионально, без тени личного.
Когда анестезиолог пошутил: «Что, старикашка тебе должен был?», Маркус лишь пожал плечами:
– Все мы кому-то должны.
И продолжил зашивать.
Теперь, спустя десятилетия, глядя на свои руки – покрытые сеткой шрамов от случайных порезов скальпелем, с постоянно воспаленным суставом на указательном пальце – он иногда ловил себя на мысли, что стал хирургом не вопреки, а благодаря тому детскому случаю. Не чтобы мстить, а чтобы больше никто не хромал из-за чужой небрежности.
А когда его сестра, та самая, приходила в гости, он незаметно наблюдал за ее походкой. Все та же легкая асимметрия шага. Все то же тихое напоминание.
И снова шел на дежурство.
Его брак начался с профессиональной ошибки. Она – школьная учительница с переломом лучевой кости после неудачной экскурсии в музей. Он – дежурный хирург, который переборщил с анестезией и оставил ей онемение в пальцах на три дня.
– Подавайте в суд, – мрачно сказал он тогда, протягивая документы.
– Зачем? Чтобы на эти деньги купить еще один чей-то бюст в кабинет литературы?
На следующий день она принесла ему пирог с вишней. Домашний. С косточками.
Так начались их восемнадцать лет совместной жизни. Без детей, судьба распорядилась иначе. Но с двумя рыжими котами, которых Маркус в сердцах называл «уродами», а Лена ловила на том, как он тайком подкармливает их кусочками колбасы из своего бутерброда.
Их быт – это война миров. Он ненавидит, как она ковыряет в его тарелке вилкой со словами «а дай попробую». Ее бесит, что он хранит подшивки «Хирургического вестника» рядом с шампунем. Его приводит в ярость, когда коты спят на его чистой медицинской форме.
Но каждое утро, пока он бреется, Лена оставляет на зеркале записки. Глупые. Нелепые. Совершенно ненужные человеку, который зашивает аорты наизнанку:
«Не забудь поесть»
«Ты сегодня выглядишь особенно брутально»
«Кстати, ты классный врач (но я тебе уже говорила)»
Маркус делает вид, что не замечает их. Но медсестры в ординаторской давно заметили – все важные записи он делает на обороте розовых листочков в цветочек.
А когда Лена в очередной раз жалуется подругам, что ее муж невыносимый упрямец, она забывает упомянуть, как однажды застала его в три ночи, когда он сидел на кухне с учебником по педагогике, пытаясь понять, как правильно проверить тетради, чтобы ей «меньше напрягаться».
Так они и живут. Без пафоса. Без громких слов.
Она – с его засохшей лавровой веточкой между страницами классного журнала. Муж подарил после первой проведенной им сложной операции.
Он – с ее дурацкими записками в кармане халата.
И оба с двумя рыжими «уродами», которые спят ровно посередине их постели.
***
Рев сирены «скорой» оборвался, словно ножом, когда автоматические двери захлопнулись за каталкой. Медперсонал, видавший на своем веку все, от рваных ран до открытых переломов, на мгновение оцепенел.
– Подросток, семнадцать лет, колотая рана живота, массивная кровопотеря…
Голос фельдшера звучал механически, будто он читал сводку погоды, а не констатировал факт того, что жизнь утекала из этого тела с каждым ударом колес по линолеуму.
Энтони лежал неподвижно. Его лицо было бледнее больничных простыней, губы синюшные, почти фиолетовые. Но глаза оставались открытыми. Широкими. Стеклянными. Как у рыбы, выброшенной на лед. Без паники. Без страха. Просто… пустые.
Маркус Андерсен, только что сделавший глоток кофе в ординаторской, почувствовал, как в горле резко пересыхает. Он узнал этот взгляд. Взгляд человека, который уже смирился.
– Готовим операционную! – его голос прорубил тишину, как скальпель.
Его команда прозвучала резко, рубящей волной в застывшем воздухе приемного покоя. Но даже привычный рефлекс действия не мог заглушить того, что Андерсен почувствовал в глубине грудной клетки – холодный, тяжелый укол профессионального предчувствия.
Медсестры засуетились, но их движения потеряли привычную слаженность. Руки, сотни раз набиравшие растворы, теперь слегка дрожали. Глаза, видевшие все, упорно отводились от каталки.
– Жив! – внезапно хирург рявкнул на медсестру, замершую с капельницей.
Та вздрогнула, словно очнувшись, и тут же вонзила иглу. Лифт в операционную шел мучительно медленно. Андерсен сжал кулаки, чувствуя, как по спине ползет липкий пот.
Он ненавидел это. Ненавидел, когда они сдавались. Особенно те, кто еще даже не начал жить.
Двери лифта открылись с тихим шипением.
– Пошли, – бросил он через плечо, уже толкая каталку вперед.
Но в голове крутилась одна мысль: что этот мальчик видел такого, что предпочел бы умереть?
Колесо каталки с громким лязгом застряло в дверном проеме, резко остановив движение. Напряженная тишина операционной взорвалась металлическим лязгом – фельдшер в ярости ударил по заклинившему колесу, и эхо удара прокатилось по коридору.
– Готово! Перекладываем!
Четыре пары рук, в синих перчатках, перепачканных кровью, ухватились за края простыни. На мгновение Энтони завис в воздухе. Бледный, безвольный, с руками, безжизненно свисающими по бокам.
Затем глухой удар. Его тело рухнуло на операционный стол, как мешок с мокрым песком. Голова беспомощно откинулась назад, открывая синеватую шею с пульсирующей яремной веной.
Андерсен уже тянулся к скальпелю, когда заметил, как пальцы мальчика вдруг дернулись. Словно во сне. Или в последней попытке за что-то ухватиться.
Лезвия ножниц со скрипом рвут хлопок. Слишком медленно, черт возьми. Маркус бросает их со звоном на инструментальный столик, предпочитая действовать руками. Ткань расходится, обнажая бледную кожу с синеватыми прожилками вен.
Его указательный палец, не дрогнув, погружается в кровавую щель раны.
Кишечник? Задет. Петля тонкой кишки разорвалась, как перезрелый плод – желтоватая слизь смешивается с кровью. Печень? Цела. Гладкая поверхность мелькает в глубине, слава богу. Селезенка? Похоже, пронесло.
– Давление?
– 70 на 40!
– Черт. Две капельницы, сейчас!
Цифры повисают в воздухе, тяжелые, как свинцовые гири. Маркус не отрывает глаз от раны – его пальцы уже работают, рассекая кожу скальпелем, расширяя входное отверстие. Металл скользит слишком легко, будто режет не живую плоть, а мокрую бумагу.
– Где этот чертов ретрактор?!
Инструмент шлепается в его протянутую ладонь. Стальные лепестки раздвигают ткани, обнажая внутреннюю катастрофу. Тишина.
Именно это пугает больше всего – кровь не бьет фонтаном, не пульсирует ритмичными толчками. Она просто сочится, лениво, как последние капли из опустошенной бутылки.
Маркус бросает взгляд на монитор. Пульс нитевидный, прерывистый.
– Эритроциты! Быстрее!
Медсестра уже вонзает пакет с кровью в подогреватель. Машина завывает, цифры на таймере отсчитывают 30 секунд.
29.
28.
27.
Андерсен засовывает руку в разрез.
– Тонкий кишечник проколот. Ищем выходное отверстие. – Его пальцы скользят по сальнику, раздвигают петли кишок.
– Вот! Нож вышел чуть ниже реберной дуги. Повезло, не задел диафрагму.
Медсестра резким движением вскрывает стерильную упаковку, извлекая систему для переливания. Острый шип прокалывает резиновую мембрану пакета с эритроцитарной массой. Густая, почти черно-бордовая кровь медленно заполняет прозрачную трубку, пузырьки воздуха всплывают в фильтр-камере.
Она перехватывает катетер на руке пациента, зажав трубку пальцами, чтобы не допустить обратного тока. Спиртовая салфетка дважды протирает порт, прежде чем металлическая канюля системы с четким щелчком встает на место.
Пластиковый роликовый зажим ослабляется ровно настолько, чтобы первые капли темной жидкости побежали по трубке. Медсестра считает секунды, наблюдая, как кровь достигает вены, затем открывает поток шире. Пакет поднимается на штатив, его положение тщательно выверено – ровно 110 см от пола, не ниже.
Аппарат для подогрева включается с мягким гудением. Через прозрачную стенку термокамеры видно, как вязкая масса постепенно разжижается, приобретая более яркий, почти вишневый оттенок. В месте соединения с физраствором образуется четкая граница – две жидкости смешиваются не сразу, создавая временный эффект слоистости.
Монитор издал протяжный монотонный звук, зеленая линия на экране распрямилась в идеальную горизонталь.
– Разряд! – Андерсен схватил электроды дефибриллятора.
Медсестра нажала кнопку заряда.
– Отойти!
Тело Энтони резко выгнулось, грудная клетка поднялась, но ритм не вернулся.
– Продолжаем массаж! – Андерсен снова положил ладони на грудь пациента.
Резиновые перчатки скользили по липкой от крови коже.
– Адреналин 1 мг внутривенно!
Медсестра незамедлительно ввела препарат в катетер.
– Готово к повторному разряду!
Андерсен отошел, электроды снова прижались к груди. 300 джоулей.
Тело Энтони резко выгнулось дугой. Грудная клетка вздыбилась, пятки ударили по столу, пальцы судорожно сжались. На мгновение он замер в неестественной позе, затем грузно рухнул обратно.
И тогда – реакция.
Зрачки, до этого широкие и темные, резко сузились в острые точки под ярким светом ламп. Глазные яблоки закатились вверх, обнажив мелкие прожилки капилляров, затем медленно опустились обратно.
– Зрачковый рефлекс положительный! – крикнула медсестра, направляя луч фонарика в глаза. – Синусовый ритм!
Андерсен тут же повернулся к ране:
– Гемостатическая губка сюда! Зажим!
Его пальцы быстро нашли кровоточащий сосуд, зажим щелкнул, пережав поврежденную артерию.
– Давление?
– 85 на 50, пульс 110!
– Продолжаем переливание!
Медсестра сменила пустой пакет с эритроцитами на новый. Андерсен кивнул ассистенту.
– Готовь шовный материал. Будем ушивать кишку.
Глава 6
Белый свет зимнего солнца, бледный и безжизненный, как потухшая лампа, косо падал на тротуар, превращая снег в сероватую, хрустящую кашу. Каждый шаг Энтони оставлял четкий след – углубление, заполненное мутной жижей. Руки глубоко зарыты в карманы, плечи слегка ссутулены. Дыхание вырывалось из его губ короткими белыми клубами. Призрачными, мимолетными, как его собственные мысли. Они появлялись, зависали в морозном воздухе на мгновение и растворялись, будто их и не было.
Он не любил выходные. Дом в эти дни становился склепом тишины, где каждый обитатель прятался в своей раковине. Это и пугало больше всего. Шум здесь был привычен, а вот тишина заставляла ужас клубиться где-то внутри.
Отец, с перекошенным от вчерашней попойки лицом, храпел на диване, распространяя тяжелый запах перегара. Мать, сжав губы в тонкую ниточку, молча вытирала стол, будто в этом движении заключался весь смысл ее существования. Лорен, уткнувшись в мерцающий экран, смотрела мультики.
И потому Энтони шел туда, где шум не был обязательным. Где можно было раствориться среди стеллажей, притвориться пылинкой в луче света, пробивающемся сквозь высокие окна. В книжный магазин. Там пахло бумагой, старым переплетом и чем-то неуловимо потусторонним, словно само время замедляло ход среди этих страниц. Там он мог быть никем. Или кем угодно.
Дверь звякнула усталым колокольчиком, его тонкий, дребезжащий звук казался голосом самого магазина, встречающим редких посетителей. Продавец, пожилой мужчина с седыми висками и очками, чьи толстые линзы делали глаза похожими на рыбьи, даже не поднял головы от разбираемой стопки книг. Он знал Энтони. Этого тихого мальчика с книжным голодом, который приходил сюда каждую неделю, словно на свидание.
Воздух в магазине был густым и насыщенным. Терпкий аромат старой бумаги смешивался с пылью десятилетий и едва уловимым горьковатым шлейфом кофе, который хозяин пил литрами. Полки росли в хаотичном порядке, как лес после урагана. Криминальные романы с кровавыми обложками стыдливо прижимались к ярким кулинарным альбомам, потрепанные томики классики терялись среди раздутых от важности учебников по психологии и брошюр с гороскопами, обещавшими счастье за три копейки.
Энтони направился в дальний угол, где под потолком висела одинокая лампочка в плетеном абажуре. Там, на покосившейся полке, жили его старые друзья – уцененные книги, которые никто не покупал, но которые ждали именно его. Их корешки, потертые множеством рук, шептались между собой, когда он проводил пальцем по шероховатой поверхности. В этом углу время текло иначе, а воздух был гуще и слаще, словно пропитанный медом забытых слов.
Его пальцы скользнули по корешкам, будто перебирая струны невидимой арфы. «Психология травмы» – потрепанный том, чьи страницы хранили отпечатки чужих пальцев. Книга говорила шепотом о том, как души, словно сломанные сосуды, пытаются удержать утекающую сквозь трещины жизнь. Каждая глава была похожа на приоткрытую дверь в чужие кошмары, и Энтони заглядывал туда с осторожностью человека, узнающего в чужих ранах свои собственные.
Рядом лежали «Основы криминалистики» – учебник, побывавший в десятках рук. На полях чей-то старательный студент оставил пометки. Синие чернила выцвели, буквы растеклись, но все еще можно было разобрать: «важно!», «запомнить», «спросить на семинаре». Эти заметки казались криками из прошлого, попыткой незнакомца зацепиться за знания, как за спасательный круг. Дэвис представлял, как кто-то так же, как он сейчас, водил пальцем по схемам места преступления, пытаясь понять, где заканчивается случайность и начинается злой умысел.
Но больше всего его манил «Атлас анатомии» – старый, разваливающийся на части, с выпадающими страницами, которые он аккуратно вставлял обратно, будто собирая пазл. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь пыльное окно, ложился на иллюстрации: алые артерии, переплетенные в причудливые узоры, белые кости, чистые, как математические формулы, схемы ран с аккуратными подписями – «рваная», «резаная», «колотая». В этих страницах не было тайн – только факты. Тело не лгало. Оно просто было.
Здесь, среди книг, все подчинялось логике. Каждая травма имела объяснение, каждое преступление – мотив, каждая мысль – причину. Никаких недомолвок, никаких пьяных криков за стеной, никаких слез, капающих в раковину. Только ясность.
Полки в этом углу напоминали своеобразный «медицинский морг» знаний. Здесь покоились десятки брошенных учебников, принесенных студентами после сессий. Казалось, можно было проследить историю всего университетского курса по этим потрепанным корешкам. «Судебная психиатрия» с закладками-шпаргалками, «Основы реаниматологии» с пятнами кофе на страницах о сердечно-легочной реанимации, «Фармакология» с подчеркнутыми названиями препаратов, которые кто-то отчаянно пытался запомнить перед экзаменом.
Продавец, ворчливый старик, принимал эти книги без особого энтузиазма.
«Опять этот хлам несешь?» – бурчал он студентам, но все равно брал, кладя в дальний угол и назначая цену ниже, чем стоимость чашки кофе в соседней забегаловке.
Иногда, заметив Энтони за изучением очередного «неликвидного» тома, кряхтел:
«Бери уже, мальчик, все равно никто не купит».
Особенно много здесь было книг по психиатрии – потрепанных, с выдранными страницами, с похабными рисунками на полях. Видимо, будущие врачи, изучив основы душевных болезней, спешили избавиться от напоминаний о человеческих страданиях. Дэвис же находил в них странное утешение. Эти учебники говорили о боли как о чем-то измеримом, классифицированном, поддающемся анализу. В отличие от невнятного страдания, витавшего в его доме.
Иногда среди этого «медицинского хлама» попадались настоящие находки. Например, учебник по судебной медицине 50-х годов с жутковатыми черно-белыми фотографиями или старый справочник по аномалиям развития с потрясающе детальными иллюстрациями. Эти книги становились для Энтони своеобразными окнами в иные миры, где даже самые страшные вещи имели названия, объяснения и, главное – конец. В отличие от жизни, которая, казалось, будет длиться вечно в этом полумраке между пьяным отцом, уставшей матерью и телевизором, орущим цветными мультфильмами.
Тень перечеркнула страницу резкой диагональю.
– Что читаешь?
Голос прозвучал слишком близко, нарушая установленные границы личного пространства. Энтони вздрогнул, будто его поймали на чем-то постыдном. Перед ним стояла Эллен. Ее розовые пряди создавали неестественное сияние вокруг лица, словно дешевый нимб, а на макушке сидела дурацкая серая шапка.
– Ничего, – он захлопнул книгу с резким щелчком, и пыль, поднявшаяся со стеллажа, закружилась в луче света, как микроскопический снегопад. Том вернулся на место с глухим стуком, будто захлопнулась дверь в чужую жизнь.
Энтони бросил взгляд на ее руки, сжимающие целую башню знаний. Учебники по психологии, а сверху, будто специально для контраста, тонкая книга о посттравматических расстройствах. Ее обложка была испещрена закладками, как шрамами, а поля пестрели заметками, превратившимися в тайный шифр чужого отчаяния.
– Просто… – он отступил на шаг, пятка наткнулась на выступ пола.
Плечо задело стеллаж, и книги качнулись, как пьяные, готовые рухнуть вниз. В горле запершило. Не от пыли, а от этого внезапного ощущения ловушки.
Раздражение поднялось по спине холодными мурашками. Она всегда так появлялась не вовремя, со своими книгами, со своим «я просто хотела помочь», со всей этой…
– Подожди. – Ее рука взметнулась вверх с неожиданной грацией.
Пальцы скользнули по корешкам, не колеблясь, не сомневаясь, и остановились на тонкой книге с синей обложкой. Слишком точное движение. Слишком уверенное. Как будто она приходила сюда, когда магазин был пуст, и запоминала расположение каждой книги.
– Вот. – Книга зависла между ними. Обложка поблескивала в свете, выгоревшая от времени, но гордая своей подлинностью. – Первое издание. Без дурацкого предисловия.
Он замер, глядя на протянутую книгу, а потом на ее лицо. В глазах Эллен не было даже намека на насмешку. Только понимание, которое резало глубже любых слов.
Энтони не поднял руки, чтобы принять ее. Его губы искривились в гримасе, которая должна была выражать безразличие, но выдавала раздражение.
– Зачем? – Слово вырвалось резче, чем он планировал.
Эллен не отводила взгляда. Ее пальцы слегка сжали обложку, оставив на ней едва заметные вмятины.
– Потому что ты трижды цитировал «Пикник» за последний месяц. – Она положила книгу на край полки, ровно на границе солнечного пятна, где пылинки танцевали в свете. – И каждый раз ошибался в цитате.
Энтони замер, почувствовав, как кровь приливает к лицу. Его пальцы непроизвольно дернулись, будто пытаясь схватить невидимые аргументы в воздухе.



