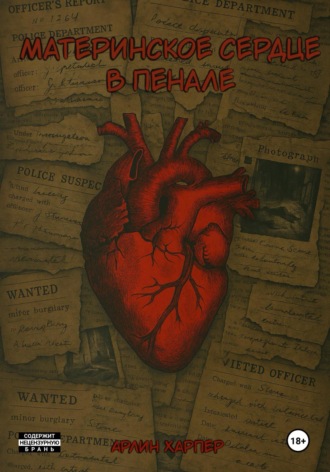
Полная версия
Материнское сердце в пенале
Как и у любого старшеклассника, у Дэвиса была своя банда. Не свита подхалимов, не фанаты, а настоящие друзья, проверенные временем и дурацкими выходками.
Мэтт, с его чудовищным чувством юмора, которое могло бы разозлить кого угодно. Но Дэвис только фыркал, когда тот в сотый раз за месяц вставлял дурацкую шутку про физрука и его вечную борьбу с лысиной. Они знали, что если Мэтт замолчал – значит, случилось что-то серьезное.
Артур, который менял девушек не потому, что был козлом, а потому что искренне верил, что в этом мире слишком много прекрасных людей, чтобы останавливаться на одной. Его фирменное «Четверг, детка!» стало в школе мемом, но Дэвис знал, что за этим скрывается – парень просто боялся, что полюбят не того, кем он был на самом деле.
И Райан. Просто Райан. Тот, кто помнил Дэвиса еще до того, как он стал капитаном команды, звездой школы и всем этим дерьмом. Тот, кто мог молча протянуть ему банку колы после тяжелого дня, даже не спрашивая, что случилось.
Они не просто тусовались вместе, они знали друг друга насквозь. И если бы кто-то спросил Дэвиса, что для него самое ценное в «Риверсайде», он бы, не задумываясь, кивнул в сторону этих идиотов, громко спорящих у его шкафчика о том, чья очередь покупать пиццу в эту пятницу.
А еще была Эва. Эвелин Барнс. Они столкнулись в коридоре средней школы буквально. Она уронила стопку учебников, он наступил на ее канцелярию. Она тогда посмотрела на него не как на будущую звезду школы, а как на идиота, который только что сломал ее последний отточенный карандаш. Он попытался отшутиться – получилось плохо. Она сказала, что его шутки хуже, чем почерк у врача. Он рассмеялся. С этого все и началось.
Их отношения развивались стремительно, как подростковые чувства – ярко, неистово, с драматизмом, которого хватило бы на сериал. Они стали той самой парой школы: то неразлучные, то кричащие друг на друга так, что учителя закрывали двери кабинетов. Расставались и сходились снова по три раза на дню. Сегодня она швыряла в него учебником, завтра они целовались у его шкафчика, вызывая завистливые взгляды.
Но за этим цирком было что-то настоящее. Она – единственная, кто не боялась сказать ему: «Ты ведешь себя как придурок», когда он зазнавался. Он – единственный, кто видел, как она плакала после ссоры с родителями, и вместо глупых утешений просто молча держал ее за руку.
Их отношения были токсичны? Возможно. Драматичны? Безусловно. Но это была их история – неидеальная, громкая, живая. Так продолжалось ровно до того дня, когда он встретил Айлу.
Выпускной класс. Последний школьный год несся с бешеной скоростью: подготовка к балу, нервные сборы документов для поступления, бессонные ночи перед экзаменами. Все шло по накатанной колее до тех пор, пока колесо не начало соскальзывать с обрыва.
Пять лет. Целых пять лет они с Эвелин были вместе. Они выросли из тех взрывных подростков, что ссорились из-за взгляда, брошенного не на того человека, в людей, которые уже не узнавали себя на старых фотографиях. Она мечтала о Нью-Йорке и бездельной жизни, наполненной тусовками и весельем, а он о спортивной стипендии в колледже где-нибудь на юге. Они все чаще спорили, все реже смеялись, и даже их знаменитые «расставания на три часа» теперь затягивались на дни, наполненные тягостным молчанием.
А потом появилась Айла.
Негромкая, нерезкая, не бросающая вызовы. Она пришла в их школу в середине года, и Дэвис впервые за долгое время почувствовал, что может просто дышать, не ожидая очередного взрыва. Она говорила тихо, но каждое ее слово имело вес. Улыбалась редко, но когда это случалось, казалось, солнце зажигалось специально для нее.
И самое страшное – он ловил себя на мысли, что хочет этого. Тишины. Покоя. Человека, который не превращает каждую мелочь в битву. Но как сказать это Эвелин, которая пять лет была его войной и миром?
Айла стала тихим спасением посреди всего этого хаоса. Девушка, о которой Джошуа никому не рассказывал. Даже Райану, даже после третьего бокала дешевого пива в гараже у Мэтта, когда все вокруг откровенничали о своих тайнах. Она существовала в его жизни как щемяще личное, слишком хрупкое, чтобы выносить на свет.
Они встречались в библиотеке, куда он теперь заходил не только перед контрольными. Айла сидела в углу, заваленная книгами по искусству, и что-то зарисовывала в блокнот с кожаной обложкой. Он подсаживался, делал вид, что учится, а на самом деле наблюдал, как ее пальцы выводят линии. Она никогда не спрашивала, почему от него сегодня опять пахнет перегаром или откуда царапина на скуле.
Айла просто протягивала ему наушник, и они слушали какой-нибудь абстрактный джаз, под который никто в «Риверсайде» даже не стал бы танцевать. Странные, ломаные ритмы, будто отражавшие весь хаос в его голове. Она не спрашивала, нравится ли ему. Он не притворялся, что понимает эту музыку. Они просто существовали в этом моменте без ожиданий, без ролей, без необходимости быть кем-то.
И это было предательством. Не громким, не показным. Тихим, как шелест страниц в библиотеке, где они прятались от всего мира. Но от этого не менее жестоким.
Каждый раз, принимая этот наушник, он предавал Эвелин. Предавал пять лет криков, страсти, драм и «я тебя ненавижу», которое всегда означало «не уходи». Предавал ту версию себя, которая знала, как быть с ней, но забыла, как быть просто собой.
Выбор. Это слово жгло изнутри. Как выбрать между человеком, который помнил его мальчишкой с разбитыми коленками, и тем, кто видел в нем что-то большее, чем легенды школьных коридоров? Между тем, что было частью его ДНК, и тем, что обещало глоток воздуха?
Айла перематывала трек, их пальцы случайно соприкасались. Он не отдергивал руку.
Значит, выбор был уже сделан? Или это просто еще одно мгновение, которое он украл у судьбы, прежде чем все рухнет?
Это случилось после выпускного. Тот вечер должен был стать завершением целой эпохи. Последние танцы, последние фотографии на фоне голубых и золотых шаров, последний раз, когда он надевал этот дурацкий смокинг, в котором Эвелин сказала, что он выглядит «ну прямо как настоящий мужчина». Но все пошло не так.
Они с Эвелин снова поссорились. Из-за чего он даже не помнил. Может, из-за того, что он слишком долго разговаривал с молодой учительницей. Или потому что не заметил ее новое платье сразу. Неважно. Она ушла, хлопнув дверью, оставив его одного среди гирлянд и растерянных взглядов.
А потом он увидел Айлу. Она стояла у открытого окна в конце коридора, в простом платье. В руках потрепанная книга, которую она всегда носила с собой. Музыка из зала доносилась сюда приглушенно.
– Ты не танцуешь? – спросил он, подходя ближе.
Она повернулась, и в ее глазах не было ни жалости, ни ожидания. Только тихое понимание.
– Не мое, – просто сказала она, а после добавила: – Ты знаешь, что это конец?
Он понял, о чем она: выпускной, школа, «Риверсайд» – все, что держало их в этих стенах, завтра превратится в воспоминание.
– Это не конец, – ответил он, но голос выдавал неуверенность.
Айла повернулась к нему.
– А что тогда?
Он не нашел слов. Вместо этого шагнул вперед, взял ее лицо в ладони и поцеловал.
Это не было похоже на те театральные, полные страсти поцелуи, которые он когда-то делил с Эвелин. Это было медленно, нерешительно, будто он боялся, что она исчезнет, если приложит хоть немного больше силы.
Но она не исчезла.
Айла ответила ему осторожно, затем увереннее, ее пальцы вцепились в его рубашку, сминая ткань. В этот момент он понял, что совершил что-то непоправимое.
Потому что теперь он знал вкус ее губ. Потому что теперь он не мог сказать, что это «ничего не значит». Потому что где-то там, внизу, Эвелин, возможно, все еще ждала его.
Где-то вдали гремела музыка, смеялись люди, рушились чьи-то планы. Но здесь, у этого окна, было только оно. То самое чувство, которое он так долго не мог назвать.
Он отстранился, ожидая увидеть в ее глазах укор, страх, вопрос. Но Айла просто прикоснулась к своим губам кончиками пальцев, как будто проверяя: реально ли это?
– Я… – он начал, но слова застряли в горле.
– Знаю, – она прошептала.
И этого было достаточно.
***
Первое, что он ощутил, – боль.
Острая, горячая, пульсирующая где-то глубоко в животе, будто кто-то вогнал туда раскаленный гвоздь и забыл вытащить. Нечеловеческая. Удушающая. Он попытался закричать, но из горла вырвался лишь хриплый стон.
Энтони открыл глаза.
Потолок. Блекло-белый, с трещиной, которая расходилась лучиками от угла, как паутина. Он следил за ней взглядом, медленно, по миллиметру, пока сознание не вернулось полностью, принося с собой обрывки воспоминаний.
Запах антисептика, въевшийся в стены. Навязчивое жужжание лампы дневного света где-то сверху. Холодная капельница, впившаяся в вену. Его собственные руки, лежащие на одеяле – бледные, почти прозрачные, с фиолетовыми подтеками вокруг катетеров.
Он был жив. Один.
Дверь приоткрылась с тихим скрипом. Вошла медсестра – женщина лет пятидесяти с усталыми, но добрыми глазами. Увидев, что он не спит, замедлила шаг.
– Вы уже с нами, – сказала она мягко. Голос у нее был низкий, спокойный. Так говорят с ранеными зверями. – Как себя чувствуете?
Энтони не ответил. Она не стала настаивать, поправила подушку, проверила капельницу. Действовала осторожно, будто боялась разбудить что-то, что спало в нем.
– Врач скоро подойдет, – сообщила она на прощание.
Дверь закрылась. Он снова остался один. Как и должно было быть.
Боль пульсировала в такт мерному пиканью монитора, напоминая: ты жив, когда они – нет. Как это вообще возможно?
Он закрыл глаза, но это не помогло. Перед веками вставали тени. Нечеткие, размытые, но знакомые. Мамин смех, доносящийся с кухни. Отец, чинящий крыльцо, его рубаха в пятнах краски. Младшая сестренка, которая вечно влетала в его комнату без стука…
Стоп.
Энтони резко открыл глаза, впиваясь взглядом в потолок. Не сейчас. Не здесь.
Но мысли, как предатели, лезли в голову:
«Почему я?»
«Почему именно они?»
«Какого черта я должен теперь делать?»
Он сжал кулаки. Слабо, слишком слабо – и тут же отпустил, когда боль рванула из живота вверх, к горлу.
Живой. Один. Никому не нужный.
За окном зашумел дождь. Капли стучали по подоконнику, словно торопились сообщить какую-то тайну.
Может, это они?
Но нет. Они не вернутся. Никогда.
И он остался один. С этим. С пустотой. С невысказанными словами, которые теперь навсегда застряли в горле колючим комом.
– Сколько времени прошло? – Голос хриплый, чуждый, будто не его собственный.
Ответа не последовало, только тиканье часов на стене. 14:23. Полоска солнечного света, упрямо пробивающаяся сквозь полузакрытые жалюзи, легла на одеяло, обжигая глаза.
День. Обычный день. Мир продолжает жить.
– Что теперь будет?
Вопрос повис в воздухе, и вдруг – неожиданно, резко – в груди что-то дрогнуло. Не боль. Не пустота. Что-то новое, острое, почти пугающее.
Страх. Настоящий, животный, сжимающий горло.
Он впервые за… сколько? Дней? Недель?.. почувствовал что-то.
Руки сами потянулись к лицу, но остановились на полпути. Слабость, боль, катетеры. Вместо этого он засмеялся. Тихо, сдавленно.
Вот оно. Еще не совсем мертв.
Солнечный луч упрямо полз по одеялу, освещая пылинки, кружащие в воздухе.
Они больше не увидят этого. Ни солнца, ни пыли, ни…
«Что теперь будет?»
Вопрос снова ударил в висок, но теперь вместе с ним пришло другое чувство – странное, почти неприличное в этой палате, среди этих мыслей.
Желание узнать ответ.
Медсестра сказала, что ему повезло. Какая ирония.
Глава 9
Кафе «У Мэри» на окраине Блэкстона – последнее место, где стоило ждать чуда.
Луиза, еще просто Лу – худая девчонка с кисточками для акварели в рваном рюкзаке, сидела у окна, кутаясь в тонкий кардиган, который не спасал от сквозняков. В пальцах конверт, густо набитый, краденый, пахнущий табаком: все, что она смогла стащить из отцовского ящика, пока он спал пьяным сном.
В голове – расписание автобусов до Чикаго. Мечта о студии где-то возле парка. О том, чтобы наконец дышать, не оглядываясь на пьяные крики за стеной.
Но потом дверь распахнулась.
Он вошел, как ураган в душном августе. Трэвис Дэвис, высокий, неуклюжий, с руками, которые не знали, куда деть себя в мирной обстановке. Волосы соломенного цвета, всклокоченные, будто он только что встал с постели. А зубы слишком белые, слишком ровные, как у героя дешевого романа.
– Ты выглядишь, как девчонка, которой срочно нужен кофе, – сказал он, плюхаясь на стул напротив без приглашения.
Луиза нахмурилась, но он уже махал официантке:
– Два эспрессо. И тот пирог с вишней.
Она собиралась сказать что-то колкое. Но он засмеялся. Громко, искренне, всей грудью, когда она съязвила про его ботинки.
«Выглядят так, будто их пожевали, а потом выплюнули»
И неожиданно Луиза поняла, что это первый раз, когда кто-то действительно слушал ее шутки.
– Я уезжаю, – вдруг выпалила она, сжимая конверт. – Сегодня. В Чикаго.
Трэвис откусил кусок пирога, кивнул:
– Хороший город. Но холодный.
– А тебе откуда знать?
– Потому что я там был. – Он наклонился, и в его глазах появилась та самая искра, которая потом будет сводить ее с ума годами. – А еще я знаю, что ты передумаешь.
– О чем ты?
– Я отвезу тебя куда угодно, – сказал он просто, как будто предлагал подвезти до дома, а не перевернуть всю ее жизнь. – Но не сегодня.
И Луиза, которая никогда никому не доверяла, поверила.
Они уехали из Блэкстоуна на рассвете, но не в Чикаго.
Трэвис появился под ее окном на третье утро после той встречи в кафе – за рулем старого Шевроле, с царапиной вдоль всего борта и картой, испещренной пометками.
– Поехали, – сказал он, как будто это было самое простое решение в мире.
Луиза, с внезапно проснувшейся дрожью в коленях, села в машину. Конверт так и остался лежать на тумбочке в ее комнате.
Первые месяцы были хаотичными, как мазки неопытного художника.
Техас, где они ночевали в придорожном мотеле, а Трэвис целую неделю подрабатывал мойщиком машин, чтобы купить ей набор хороших красок.
Нью-Мексико, где Луиза впервые продала свою картину пожилой паре, владевшей закусочной. Трэвис повесил вырученные 50 долларов на зеркало заднего вида как талисман.
Аризона, где они чуть не расстались после жаркой ссоры. Он хотел на север, она мечтала об океане. В итоге проснулись в обнимку на заднем сиденье, и он прошептал:
«Черт с ним, едем в Калифорнию».
Он учил ее не бояться.
Когда она робко показывала ему свои эскизы, он хватал их и вешал на стену дешевых номеров.
«Чтобы я каждое утро просыпался рядом с твоим талантом».
Когда она впервые расплакалась от ностальгии по родным краям, он не утешал. Просто включил громкую музыку и потащил ее танцевать под звездами.
Она учила его быть настоящим.
Он скрывал, что бросил колледж. Она узнала и купила ему учебник по архитектуре.
«Ты слишком умный, чтобы просто возить меня по стране».
Он боялся глубины – она научила его плавать в озере Тахо, держа за руку и смеясь над его паникой.
А потом был тот вечер в Неваде, когда Шевроле сломался посреди пустыни. Они сидели на капоте, потягивая теплое пиво, когда Трэвис вдруг сказал:
– Давай поженимся. Не когда-нибудь. Завтра.
Луиза засмеялась:
– У нас даже колец нет.
Он сорвал колючку с кактуса, скрутил в кольцо и нацепил ей на палец:
– Вот. Теперь есть.
Она сказала «да».
Все пошло под откос именно в тот момент, когда казалось, что дальше падать уже некуда.
Они вернулись в Блэкстон спустя восемь лет. Не в том самом разбитом Шевроле, что когда-то увез их прочь от сонного городка, а на потрепанном междугороднем автобусе, который пах дешевым бензином. С собой один потертый чемодан на двоих, пачка неоплаченных счетов из Лос-Анджелеса и тяжелое молчание, которое копилось между ними всю долгую дорогу.
Причина первая: деньги.
Письмо пришло внезапно, как удар под дых. Отец Трэвиса умирал. Старый дом, клочок земли, груда долгов – все теперь его.
«Мы сможем начать сначала», – говорил Трэвис, вертя в руках потрепанную фотографию.
Дом на окраине выглядел обшарпанным, но крепким, с широким крыльцом и пустующими окнами, будто ждущими, когда в них снова зажжется свет.
Луиза не ответила. Она стояла на пожарной лестнице их съемной конуры в Лос-Анджелесе, затягиваясь сигаретой до хруста в легких. Внизу мигали неоновые вывески, гудел ночной город, а где-то там, за поворотом, оставались их несбывшиеся мечты.
Именно тогда они поссорились по-настоящему. Не с криками, а с ледяным молчанием, которое резало больнее, чем любые слова.
Причина вторая: ребенок.
Луиза узнала о беременности за неделю до отъезда. Дешевый тест, купленный в круглосуточной аптеке по дороге с работы, лежал на краю раковины, его две розовые полоски расплывались от капель воды.
Трэвис ворвался в ванную, не постучав. Его глаза горели, как восемь лет назад в прокуренном кафе «У Мэри», когда он впервые сказал ей:
«Давай махнем куда подальше».
– Мы сможем вырастить его там! – крикнул он, размахивая письмом с гербом Блэкстона.
Ее губы уже сложились в «Я не готова», но язык будто прилип к небу. В его взгляде читалось то же безумие, что и в ночь их побега. Только теперь вместо чемоданов с мечтами был ребенок, а вместо открытой дороги – прогнившие половицы отчего дома.
Она промолчала. Потому что иногда молчание – единственный способ не разбить сердце тому, кто еще верит в сказки.
Блэкстон встретил их пыльным ветром.
Особняк скрипел, как старый корабль на мели. Отец Трэвиса – уже похороненный чужими руками, долги – втрое больше, чем в письме, а в пепельнице у порога все еще валялся окурок с отпечатком его губ. Луиза стояла посреди гостиной, где пахло затхлостью и чужим прошлым, и чувствовала, как скрип половиц под ногами повторяет одно:
Ловушка. Ловушка. Ловушка.
Но Трэвис носился по дому, как мальчишка, волоча за собой чемодан.
– Здесь будет твоя студия, – он тыкал пальцем в заплесневелую стену. – А здесь… – его голос дрожал, – …детская.
Перелом случился в ноябре.
Ребенок ушел тихо, как последний свет в захлопнувшемся холодильнике. Трэвис, вместо того чтобы стать стеной, которую можно разбить кулаками, зашептал:
«Мы попробуем снова».
И тогда она ударила его. Не сильно, ладонью в грудь, но он отпрянул, будто от удара ножом.
На следующее утро он притащил холст и кисти.
– Рисуй. Как раньше, – сказал он, в глазах плавала та самая девочка из кафе «У Мэри», которая когда-то верила в будущее.
Луиза взяла кисть. Провела по холсту одной алой полосой, ровно такой, как дорога на карте, по которой они так и не уехали. Отложила. Вышла во двор.
А потом пришли счета.
Первый. Второй. Третий.
Трэвис начал пить. Сначала по вечерам, потом с обеда, потом уже к полудню его дыхание пахло дешевым виски. Однажды он швырнул ее палитру об стену, и краски брызнули по обоям, как запекшаяся кровь.
– Почему ты больше не рисуешь?!
Луиза собрала чемодан ночью. Но когда вышла на крыльцо, увидела на дороге гололед, скользкий, как ее оправдания, в кармане двенадцать долларов и чек из аптеки, в животе новую жизнь, которая уже не спрашивала разрешения.
Она развернулась. Вернулась в дом. А на утро сказала Трэвису, что ждет ребенка.
***
В тот день все пошло наперекосяк с самого рассвета.
Энтони проснулся от странной тишины – будильник не звонил. Провод зарядки, всю ночь болтавшийся на краю кровати, окончательно выскользнул из телефона, оставив экран черным и безмолвным. Он ткнул в кнопку включения – ничего. Мертвая батарея.
На автобус он опоздал ровно на те три минуты, что потратил, пытаясь оживить телефон. Следующий только через тридцать минут. Энтони побежал, чувствуя, как рюкзак бьет его по спине в такт шагам. В горле запершило от холодного утреннего воздуха.
А потом – деревянное ограждение у школы. Торчащая балка, которой раньше не было, или он просто не замечал ее, крюком зацепила ремень рюкзака. Резкий рывок, и теперь сумка болталась на одном плече, как сломанное крыло.
Поэтому, когда на полпути домой его настиг дождь, Дэвис даже не удивился.
Вода хлестала с неба, будто кто-то опрокинул ведро, забыв предупредить землю. Он побежал, но было уже поздно: за считанные секунды футболка прилипла к спине, несмотря на надетую поверх толстовку, а кроссовки захлюпали, как две маленькие лодки, безнадежно набравшие воду.
Добежав до вывески супермаркета, Энтони остановился, отдышался и вытер ладонью лицо. Бесполезно. Он был мокрым насквозь. Ровно настолько, чтобы холодная струйка воды уже подбиралась по спине к пояснице, обещая не самые приятные следующие пару часов.
«Ну конечно же», – усмехнулся он про себя, отряхивая капли с рукавов.
«Идеальный конец идеального дня».
Жалкий навес у магазина оказался предателем. Он кокетливо прикрывал разве что верхушку головы, пока косой дождь методично заливал воротник, а порывы ветра устраивали ледяные экзекуции по всему телу. Каждый новый шквал проникал под одежду, вытесняя последние крупицы тепла. Казалось, даже кости промокали насквозь.
Энтони ежился, прижимая локти к бокам, но это лишь заставляло мокрую ткань сильнее прилипать к коже. Еще пять минут и он начнет превращаться в сосульку. У бездомного под соседним навесом хотя бы было одеяло.
Но он, похоже, был не единственным, кого вселенная решила сегодня потрепать.
Плеск чужих кроссовок по лужам прорвался сквозь шум дождя – резкий, торопливый. Дэвис обернулся и увидел Эллен. Ее розовые волосы липли к щекам, словно выцветшие лепестки, а тушь размазалась по лицу, превратившись в подобие трещин на фарфоровой кукле.
– Следишь за мной? – хмыкнул он, вытирая ладонью воду с подбородка.
Она подняла на него глаза и вдруг улыбнулась, будто этот промозглый вечер внезапно стал чуть теплее.
– Стечение обстоятельств, – пожала плечами, отбрасывая мокрую прядь. – Не думала, что ты тоже в этой стороне живешь.
Дэвис хотел ответить что-то едкое, но в горле запершило. Он резко отвернулся, подавив кашель. Даже тело сейчас против него.
– В этом районе? – выдавил он, скептически оглядывая потрескавшиеся фасады. – Серьезно? Да тут даже фонари горят через один.
Эллен провела пальцем по мокрой металлической стойке навеса, собирая капли в ладонь.
– Ну, знаешь ли… – ее голос дрогнул, будто она взвешивала каждое слово, – не у всех есть возможность выбирать.
Дэвис молча наблюдал, как дождь стекает по ее розовым прядям. В голове крутилось:
«Ну конечно, именно Эллен. Именно сейчас, когда я выгляжу как утопленник».
Они состояли в одной компании – пили один и тот же дешевый энергетик на площадке, смеялись над одними и теми же тупыми шутками. Но вот так, наедине? Никогда. Почти никогда.
Сейчас, под этим жалким навесом, в этом проклятом районе, она казалась слишком уж неуместной. Как будто кто-то специально подкинул ему эту картинку, чтобы окончательно добить.
Ее карие глаза казались темнее обычного. Может, из-за размазанной туши, а может, из-за того, как она прищурилась от порыва ветра.
«О чем она вообще думает?»
– Ты… – начал он, но голос прозвучал хрипло.
Она подняла на него глаза.
– Да?
Энтони вдруг осознал, что стоит слишком близко. Что видит, как капля дождя скатилась по ее носу. Что между ними сейчас меньше расстояния, чем было за все эти месяцы в одной компании.
И что он не знает, что с этим делать.
– Да? – повторила Эллен, и в ее карих глазах мелькнуло что-то, что Дэвис не мог расшифровать.
Дождь барабанил по жестяному навесу, заполняя паузу, которая уже начала казаться вечностью.
– Ты… – он сглотнул, – Ты тоже живешь где-то здесь?
Она усмехнулась, но в уголках глаз не появилось привычных смешинок.
– Да. Совсем рядом. А ты? – она скользнула взглядом по его промокшей толстовке. – Опять забыл зонт?
– Да вроде он у меня сломанный где-то…
– Как всегда, – она покачала головой.
Тишина снова натянулась между ними, но теперь она была не такой неловкой.
Где-то вдали прогрохотал грузовик, и Энтони вдруг осознал, что не хочет, чтобы этот разговор заканчивался. Идти домой сейчас хотелось меньше всего.
Эллен вздохнула, стряхивая воду с рукава.
– Ладно, хватит мерзнуть. У меня квартира через две улицы, – она кивнула в сторону узкого переулка. – Мать сегодня у подруги в гостях, раньше полуночи вряд ли вернется. Можешь переждать, если хочешь.
– Ты… серьезно?
– Ну да, – она пожала плечами, но взгляд скользнул в сторону. – Только предупреждаю – у нас жуткий бардак. И кот. Кот, кстати, псих.



