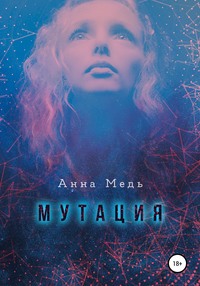Полная версия
Женская доля
***
Марфа подогнала телегу поближе к входу и спрыгнула на землю.
– Вставай! – скомандовала она Прасковье, что корчилась на старой соломе.
– Не могу! – простонала та и замотала головой.
Сил не было, даже чтобы встать на ноги. На крики из дверей вышла полная женщина в белом переднике – акушерка. Окинула взглядом телегу, цокнула языком.
– Давай заводи внутрь. Чего раньше не привезли? Еле живая!
Прасковья сквозь растрепанные волосы видела, как свекровь отвела акушерку в сторону. Они принялись о чем-то шептаться, поглядывая на несчастную женщину. Да той и дела не была до их разговора. Хоть бы кто помог уже, в голове был такой туман, боль перекрывала любую мысль.
Звон монет резанул где-то на окраине сознания несчастной женщины. За что платит свекровь? За помощь при родах? Но почему тайком? И тут же скрутило такой волной судороги внизу живота, что и думать уже было невыносимо. Вздохнуть бы через силу.
Акушерка подозвала санитаров. Прасковью перенесли на носилки и потащили по длинным коридорам больницы. Марфа шла следом, не сводя глаз с невестки. И наконец у дверей палаты отстала, растворилась в мареве, которое полосами плыло перед глазами несчастной молодухи.
***
Родильное отделение встретило Прасковью запахом хлорки и карболки. Ее уложили на жесткую койку в общей палате. Тут же акушерка Зинаида, та самая, что шепталась с Марфой, деловито засучила рукава.
– Задирай подол, ноги шире. Посмотрим, что там у тебя.
Прасковья с трудом натянула влажную юбку, облепившую ноги. Она столько часов уже мучилась, что каждое движение давалось с трудом. Долгая дорога и часы схваток лишили последних сил.
Зинаида осмотрела ее, покачала головой.
– Рожать будешь нескоро. Часа два-три еще схватки.
– Воды дайте! – прохрипела Прасковья.
Но акушерка отмахнулась:
– Потом, потом. Сначала дело сделаем. Роди, а потом будешь уже пить.
В щели дверей мелькнуло лицо Марфы. Свекровь заглянула внутрь, только не с любопытством или заботой. Нет, лицо ее было непроницаемым, как у каменной бабы.
Прасковья поняла – она не ушла далеко, осталась в коридоре. Что-то нехорошее было в ее поведении, странное, но что именно, женщина понять никак не могла. Не до этого…
Боль не давала сосредоточиться на тревожных мыслях, рвала на части, скручивала в три погибели. Время тянулось, как смола. Схватки шли почти без перерыва, и каждая ужаснее предыдущей. Прасковья металась по койке, впивалась руками в металлическую сетку, кусала губы до крови.
Зинаида изредка подходила, щупала живот:
– Рано, терпи.
– Врача позовите, – умоляла несчастная. – Мочи нету терпеть.
Но акушерка хмурилась лишь в ответ:
– Ничем тебе врач не поможет, первый раз всегда тяжело. Все терпят, и ты терпи.
***
Наконец, когда за окнами совсем стемнело, Прасковью буквально вывернуло изнутри. Она почувствовала, как неудержимая сила выталкивает ребенка наружу. Она закричала, выгнулась дугой. Подскочила на ее крик Зинаида и принялась командовать:
– Тужься! Давай, давай!
Прасковья старалась изо всех сил. Перед глазами плыли красные круги, в ушах звенело. Не кричала, уже сил не было на это, тяжело только хрипела. От напряжения пот ручьем лился, и муки этой, казалось, нет конца. И вдруг – облегчение! Что-то выскользнуло из нее, и боль отступила.
– Мальчик! – объявила Зинаида.
А следом раздался крик – громкий, требовательный, полный жизни. Прасковья приподнялась на локтях, пытаясь разглядеть ребенка сквозь туман и слезы, что застилали глаза. Но Зинаида подхватила малыша, ловко перерезала пуповину, обернула новорожденного в пеленку и отвернула от матери.
Прасковья потянулась к сыну:
– Покажите! Дайте взглянуть хоть на него!
– Потом, потом. Отдохни сначала, – бросила Зинаида. – Ребеночка обмыть надо, укрыть, осмотреть.
И вышла из палаты, унося сверток. Прасковья попыталась встать, но силы покинули ее. Голова кружилась, перед глазами плясали черные мушки. И она провалилась в забытье…
***
Очнулась женщина через несколько часов. За окном – глухая ночь, рядом – никого. Вскинулась она, где ее сыночек? Даже глянуть не дали на малыша!
Она поднялась с кровати – юбка в крови, ноги дрожат, но материнское сердце гнало вперед. Опираясь о стену, она выбралась в коридор.
– Где мой ребенок? – спросила у проходившей мимо санитарки.
Та испуганно шарахнулась в сторону.
Прасковья поплелась по коридору, заглядывала в палаты и кричала, заходясь от ужаса:
– Мой сын! Я слышала его крик! Где он?
Но никто не отвечал на ее вопросы… Все отворачивались, прятали глаза… Пока вдруг не прибежала Зинаида. Лицо у акушерки было хмурым, взгляд жесткий.
– Что кричишь? Рожениц разбудишь. Иди обратно в палату, нельзя тебе вставать пока.
Прасковья вцепилась ей в рукав:
– Где мой ребенок? Я слышала, как он плакал! Я хочу увидеть его.
Акушерка отвела глаза:
– Мало ли что тебе послышалось. Твой ребенок родился мертвым.
– Покажите его мне! Не верю! Он живой! – зашлась в крике Прасковья.
Но Зинаида выдернула руку, кивнула санитарке – уводи ее.
– Бывает так, ничего не сделать. Младенческая хворь приключилась, болезный родился. Два раза вдохнул и помер. Нельзя тебе на него смотреть, уже в морг снесли.
– Покажите бумаги! – надрывалась несчастная мать.
Вдруг кто-то вцепился ей стальными пальцами в локоть и поволок по коридору. Это оказалась свекровь. Марфа, бледная, с поджатыми губами, подтолкнула невестку к выходу в конце длинного коридора.
– Домой поехали, шевелись.
Видя обезумевшие от горя, полные недоверия глаза женщины, добавила:
– Сутки уже без памяти провалялась. Думали, и ты помрешь.
***
Зинаида вдруг куда-то исчезла. Санитарка помогла Марфе вытащить обессиленную женщину на улицу. От оторопи и свалившегося горя Прасковья ни крикнуть, ни шагу ступить больше не могла. Силы ее оставили, будто весь воздух вышел, вся жизнь.
Она попробовала кинуться к больничной двери, но свекровь с такой силой толкнула ее на телегу, что все перед глазами опять уплыло в темноту. Только и успела прошептать, когда теряла сознание:
– Сынок! Даже имя дать не успела тебе…
***
Когда Прасковья, обессиленная родами и потрясением, пришла в себя, телега везла ее уже рядом с деревней. Марфа погоняла лошадь, оглянулась на невестку.
– Очнулась. Все лежишь, а другие сразу за работу принимаются.
Прасковья попыталась соскочить с телеги.
– Разворачивай в больницу! Не поеду! Мне ребенка надо забрать!
Но Марфа уставилась на нее черным, тяжелым взглядом. И вдруг рявкнула так, что редкие прохожие оглянулись:
– Хорошо, что помер!
От ее слов женщина вскрикнула. За что же так про ее сыночка?! А свекровь скривила губы:
– Нагуляла ты его, пока Петр на заработках был, вот господь и покарал. Помер твой сын. Ты в этом виновата, распутница. Незаконнорожденному младенцу одна дорога – в землю.
Прасковья от удивления так и застыла – что за навет? Петр уехал на покос всего три недели назад, до того полгода из дома изредка выходил. А она всегда при нем, на глазах.
Но Марфа уже гнала лошадь дальше.
– Забудь про ребенка, не было его. Родишь еще, когда Петр вернется. Про свой грех молчи.
– Какой грех? О чем вы? – Прасковья не могла взять в толк, о чем говорит свекровь.
А та снова замолчала, словно воды в рот набрала. Только смотрит недобро… Довезла невестку до дома и ушла к себе в горницу. Прасковья осталась одна в пустой избе. Металась из угла в угол, все ей крик детский чудился.
***
Кинулась на улицу, а там детишки за воротами по улице бегают. Услышала их крики, пала на лавку и завыла в голос. Тосковала по-звериному, как скулит волчица, потерявшая волчат.
Соседки сбежались на крик… А Марфа встретила их у ворот и вытолкала прочь:
– Расходитесь! Ребенка потеряла она, с ума сошла от горя. Не трогайте ее.
Старая Акулина, та самая повитуха, заохала:
– Как так-то, Марфа Степановна? Здоровая баба же Прасковья, не должна была ребенка скинуть. Что же вы ко мне не пришли, помогла бы я ей разродиться. Первенца бы вашего уберегла.
– Много ты понимаешь, пьянь! – огрызнулась Марфа и вытолкала старуху за калитку.
Ночью Прасковья не спала. Перебирала в памяти все воспоминания, что остались полустертыми из-за боли в родах. Лежала на печи и прислушивалась к звукам. Все ей казалось, что плачет где-то младенчик, ее сынок. Зовет ее…
И услышала… Да такое, от чего волосы встали дыбом.
Никто не поможет – 2
Под окнами вдруг зашептали голоса – Марфа с кем-то разговаривала. Кое-как Прасковья сползла с печи и прокралась к окну. Прижалась ухом к щели между створок. Один голос свекрухи, а второй тоже она узнала – жена старосты, Антонина Матвеева.
– Все сделала, как договаривались, – бубнила Марфа. – Здоровый мальчик, кричал громко.
– Спасибо тебе, – ответил женский голос. – Мы уж думали, век бездетными останемся. Вот держи тысяча рублей, как и обещали. Главное, молчи, никому о нашем уговоре не проболтайся.
Послышался звон монет, шорох купюр.
Прасковью как огнем обожгло. Так вот за что свекровь акушерке заплатила – ребенка забрать. Поспешно зажала себе рот, чтобы не закричать от ужаса перед открывшейся тайной. Продали! Ее живого ребенка продали, как теленка на ярмарке!
Антонина снова что-то зашептала:
– А если Прасковья правду узнает? Слыхала, она в город собиралась ехать, документы на ребеночка требовать в больнице.
Свекровь ответила:
– Не узнает. Акушерка деньги получила, никаких бумаг не имеется. Она там и пробыла недолго всего, родила, и в ночь отвезла я ее назад. Она же без памяти была, не помнит ничего. А будет орать и выть, правду искать, так скажу Петру, что ребенок не от него. Нагулянный. Чтобы жену усмирил враз. Мне он поверит, мать родная все-таки. Прасковью можно и в сумасшедший дом упечь, если шуметь начнет.
***
У Прасковьи ухнуло сердце вниз в дикой ярости – вот для этого свекровь так на нее смотрела и караулила каждый ее шаг! И тут же всколыхнулась радость внутри – жив ее сынок! Жив!
Только как же теперь правду найти? И наказать Марфу, что такой обман устроила…
– Воровка! Детокрадка! – силы взялись из ниоткуда, кинулась во двор Прасковья. – Отдай моего сына!
Марфа при виде разъяренной невестки струхнула. Да тут же в себя пришла, только к груди покрепче прижала туго набитый мешочек.
– С ума сошла, что ли?! – рявкнула на женщину свекровь. – Какого сына? Помер твой ребенок, сколько раз повторять!
Но Прасковья наступала на нее с криками:
– Врешь! Я все слышала! Продала ты его Матвеевым за тысячу рублей!
Старостиха попятилась к воротам, Прасковья преградила ей путь:
– Стой! Где мой ребенок?
– Да что вы, Прасковья Ивановна, о чем вы? – залепетала Антонина. – Я просто в гости зашла, Марфу Степановну проведать.
– В гости? Ночью? А деньги ей за что принесли?
Прасковья выхватила мешочек из рук свекрови. Монеты и купюры посыпались на землю.
– За сына моего ей заплатили! Купили себе ребенка! О чем думали, когда с Марфой уговаривались? Вас бог накажет за такие грехи!
– Прасковья, опомнись! – Марфа попыталась схватить невестку за руки. – Бред это все! Привиделось тебе с горя!
– Привиделось? А это что? – Прасковья схватила с земли деньги и швырнула прямо в ненавистное, каменное лицо. – Что за деньги?
Марфа смолчала, сжав губы в тонкую линию.
***
А старостиха воспользовалась заминкой и выскользнула за ворота. Только и застучали по дороге ее ноги в новых сапожках.
– Верни ребенка! – кинулась за ней Прасковья, но та уже скрылась в темноте.
Марфа подхватила под руки невестку, потащила ее в избу:
– Идем, я тебе правду расскажу.
– О чем говорить? – оттолкнула ее Прасковья. – Ты моего сына продала!
– Для его же блага! – вдруг выкрикнула свекровь. – Что ждет его здесь? Нищета да голод! А у Матвеевых он хорошую жизнь хоть узнает!
– Он мой сын! Мой! Не имеете права решать, где ему жить.
– А какое ты имела право блудить, пока муж твой на заработках спину гнет?
– Да что несете? Петр три недели назад уехал!
Марфа усмехнулась.
– Ты мне-то голову не дури. Прошлой зимой, когда он на заработках в городе был, ты с приказчиком спуталась! Три месяца не было сына моего дома. Вот ты и забрюхатила от любовника. Уж я знаю! Я не мужик, в женских делах разбираюсь.
– За молоком приходил приказчик. У него жена больная была! – оправдывалась Прасковья.
Но свекровь и слушать не стала.
– Не выдумывай! – отрезала старуха. – Думаешь, я слепая? Думаешь, не видела, как ты расцвела, когда Петр уехал? Как глаза блестели, как песни пела?
От ее слов Прасковья разрыдалась – бесполезно доказывать. Марфа все решила заранее, все подстроила. И Петру внушит, что жена изменница. Неужто никто не поможет ребеночка вернуть…
Так все и случилось, как свекруха начернила.
***
Утром вернулся Петр с работ, ему уже весточку принесли, что первенец помер его в родах. Он с обозом почтовым приехал быстрее домой. Встретили его заплаканная жена и нахмуренная мать. Прасковья бросилась к мужу:
– Петя! Наш сын жив! Я слышала, как твоя мать с Матвеевой договаривались! Продала она его за тысячу, с акушеркой сговорилась в городе!
Петр отшатнулся, взглянул на мать. Марфа стояла прямая, непреклонная.
– Бред это все! С горя помутилась жена твоя. Ребенок помер при родах. Я самолично в больнице при ней была.
– Не верь ей! – кричала Прасковья. – Живой наш сын! Она его продала!
Петр смотрел то на мать, то на жену. Кому верить?
– Бред! – твердила мать. – С горя помутилась. Бегала ночью по деревне, кричала. Хорошо, люди добрые в дом загнали.
А жена билась в слезах:
– Петя, родной, поверь мне! Я слышала, как они договаривались!
Петр молчал долго, потом повернулся к матери.
– Мама, скажи правду. Где ребенок?
Марфа всхлипнула, закрыла лицо руками.
– На погосте похоронен. Слабенький был, не выжил.
– Покажи могилу, чтобы я поверил тебе.
– Безымянных младенцев в общей могиле хоронят. Не найдешь.
Мужчина тяжело опустился на лавку, Прасковья бросилась к нему, обняла за плечи.
– Не верь ей! Пойдем к Матвеевым, там наш сын!
– А если там чужой ребенок? Опозоримся на всю деревню. Они люди уважаемые, разве стали бы так поступать?
Но жена убеждала:
– Наш там! Я сердцем чувствую!
И он согласился:
– Идем, узнаем правду.
И тут же Марфа преградила ему дорогу:
– Петя! – вцепилась в рукав сына. – Не ходи! Не позорься!
Но он отстранил ее руку и с Прасковьей направился к Матвеевым. Если бы знал, какая беда выйдет от того.
***
Дом Матвеевых стоял на отшибе – большой, крепкий, обнесенный высоким забором. Петр уперся – надо все проверить. Обошел забор, нашел щель между досками и заглянул во двор. А в окне мелькнула женская фигура с младенцем на руках!
– Вижу! Ребенка вижу!
Следом Прасковья тоже припала к щели. Но рассмотреть не успела – далеко и темно в комнате. Муж принялся в ворота стучать, грохотать изо всех сил:
– Открывайте! Не откроете – дверь разнесу!
На шум выскочил сам староста Мирон Матвеев, грузный, бородатый, с маленькими глазками.
– Чего шумишь, Петр? Какое дело?
– Отдавай сына!
Матвеев побагровел.
– Спятил, что ли? Какой твой сын? Твой помер, а у меня сирота без матери и без отца! Доброе дело делаю, а ты ходишь шумишь только.
Не унимался Петр:
– Сын у меня родился недавно, мать моя тебе его продала. Все я знаю о вашем уговоре!
И только сказал, как Матвеев накинулся выгонять непрошеных визитеров:
– А ну, прочь!
На крики выбежали работники старосты, оттащили Петра. Он вырывался, за топор хватался. Да только по приказу Матвеева скрутили его, топор отняли. И так волокли, так пинали и крутили, что хрустнуло в колене у мужчины. Нога совсем ходить перестала, еле потом до дому дополз.
***
Вернулся домой Петр избитый, в разорванной рубахе. Нога правая не ходит. Рядом Прасковья в слезах. При виде матери еще сильнее злость вскипела у Петра. Последними словами кинулся ее костерить и виноватить.
И от его проклятий схватилась Марфа за сердце, осела на пол. Лицо посинело, дыхание стало хриплым. Смерть пришла за ней. А в такой момент ох, как за грехи становится страшно! Прощения хочется…
Призналась Марфа во своем преступлении против сына.
– Прости, – прохрипела она сквозь страшные судороги. – Правда все. Продала я младенца вашего. Тяжело живем, не потянем ребеночка. А староста Матвеев денег посулил. Я взяла… и ребенка отдала им. Прасковья молодая ведь, еще народит. А Матвеевы обещали… Обещали…
Глаза закатились у нее, тело обмякло.
– Живой твой сын… Прости меня…
Только и успела прощения попросить, да не получила его, умерла непрощенная, не смог Петр снести такого проступка.
***
И на похороны матери он даже не пошел. За гробом Прасковья одна шла, пока муж к Матвеевым снова в ворота ломился с криками. Только в этот раз дракой не обошлось. У дома старосты ждали уже его жандармы. Скрутили и увезли в тюрьму за нарушение общественного порядка и клевету на уважаемых людей.
Долго Петр сидел в камере, пока не явился однажды урядник и не пояснил ему – выпустят, если будет соблюдать условия. К Матвеевым не приближаться, про ребенка не заикаться. С женой в дальний район уехать, чтобы никто ничего не доискался.
А откажется – ему же хуже.
– Доказательств нет, свидетелей нет. За клевету на порядочных людей на каторгу отправят, а жену в сумасшедший дом упекут. Будьте благоразумны, поезжайте куда подальше…
Долго думал Петр, а потом… сломался. Прасковья все глаза выплакала, он еле ходит, мать в могиле. Не добиться ему правды.
Собрали супруги нехитрый скарб, продали свой домишко за копейки и поехали за новой жизнью. Прасковья ехала в телеге и все оглядывалась на деревню, не сводила взгляда с дома Матвеевых, что высился на отшибе.
Шепотом пообещала сыну:
– Вернусь я, – прошептала она. – Вернусь за тобой.
Но не вернулась… Не вышло. Двадцать восемь лет прошло в чужом краю. Петр надорвался на работе, и старая травма ноги дала о себе знать – стал инвалидом, едва ходил с палочкой. Детей больше в семье не случилось, Прасковья не могла родить после того, что пережила.
Не сложилась жизнь после пережитого горя. Сломал их обман Марфы.
***
Каждый день Прасковья о сыне вспоминала, мечтала узнать, как живет он в чужом доме. Хотела обнять его, хоть разок взглянуть на единственного своего ребенка.
И дождалась…
Спустя почти тридцать лет вдруг постучался к ним в дверь молодой человек.
– Здравствуйте. Я ищу Прасковью Ивановну и Петра Карповича.
Прасковья вгляделась в гостя. Сердце екнуло. Глаза мужа, ее нос и подбородок. А незнакомец уже кланяется:
– Николай Матвеев меня зовут. Но я знаю, что Матвеевы мне не родители.
Прасковья схватилась за косяк, чтобы не упасть. Петр едва тоже стоял, слабые ноги ходуном ходят, слезы текут по морщинистому лицу.
– Сынок? Ты?
Николай кивнул:
– Мать перед смертью призналась, что я неродной. Всю жизнь мучилась она своим грехом. Сказала правду как есть, украли меня у настоящих родителей. Я через деревенских вас искал, расспрашивал, куда уехали. И вот… нашел.
Прасковья бросилась к нему, обняла. Но в объятиях не было тепла – чужой человек. Двадцать восемь лет прошло. Сердце рвалось к сыну, но останавливалось, взрослый, незнакомый…
Он посидел час, выпил чаю.
– У меня семья, – Николай показал старикам фотографии. – Жена, сын. Я просто хотел узнать правду.
Рассказал о своей жизни – учился в городе, работает инженером. Матвеевы любили его, баловали. Он ни в чем не нуждался.
– Простите, что так вышло, – сказал на прощание.
И ушел. С тех пор больше не приходил.
***
Прасковья после его ухода слегла. Петр кое-как за ней ухаживал, но силы таяли. А вечерами смотрел на фотографии, что оставил им Николай на память.
– Вот и нашли сына, – горько усмехался Петр. – Только он нам не сын. Чужой совсем.
– Украли у нас счастье, – следом заливалась слезами Прасковья. – Не вернешь.
После этой встречи не протянула Прасковья и полгода – умерла, после нее через год Петр за ней тоже ушел. На похороны отца приехал Николай с семьей. Постоял у могилы, положил цветы. С памятника смотрели чужие люди. Родные по крови, но сердце не отзывается любовью. Отняли у них это счастье – быть семьей.
Николай смотрел на две свежие могилы и думал:
– Ведь любила меня моя настоящая мать, все эти годы мечтала найти. Но чужие люди сделали ее боль своим секретом. Столько лет страданий – и все напрасно.
Дочку твою красотку жду к себе вечером – 1
Мелькнул синий платок и исчез за дверью немецкой комендатуры. Так каждое утро… приходится идти в логово фашистов ради спасения детей.
Вот уже третью неделю подряд Анна стояла и вглядывалась в предрассветную темноту. Смотрела до рези в глазах, как ее золовка Екатерина ходила в штаб гитлеровцев, чтобы прислуживать фашистам.
Утренний осенний туман окутывал деревню серой мглой, и фигура Екатерины растворялась в сумерках, словно тень. Только и можно рассмотреть синее пятно платка. Вот он мелькнул на фоне побеленной стены и исчез в черном проеме двери.
– Мама, а тетя Катя опять к фашистам в комендатуру пошла? Почему она не откажется? – дочка, шестнадцатилетняя Маша, не сводила с матери внимательных карих глаз.
***
Анна отвернулась от окна, передернула плечами, по спине пробежал колючий холодок от вопроса.
– Работает она там, знаешь же сама. Белье стирает офицерам, – ответила сухо.
Незачем девочке о таком думать!
Хотя сама понимала, как же тут не думать о таких вещах, пускай даже и в шестнадцать лет. Война кругом, их деревня оккупирована немецкой армией. И теперь фашисты здесь живут, чувствуют себя хозяевами, а они должны с этим мириться, чтобы выжить.
Мария недоверчиво покачала головой. Ее большие карие глаза смотрели на мать с укоризной.
– Ей там за это лекарства для Катюши дают? И масло сливочное?
– Что ж ты допытываешься? – резко оборвала дочь Анна. – Иди лучше ребятишек поднимай, пускай умываются и за стол. Мальчишки небось уже проголодались.
Мария наклонила упрямо голову, снесла упрек матери. Хотя так хотелось дерзко ответить, что она уже не маленькая, обо всем догадывается. Девушка нехотя ушла на вторую половину их дома. Загремела посудой, и сразу же затопали босые детские ноги.
***
Пятилетний Ваня и десятилетний Коля, сыновья Анны, и четырехлетний малыш Петька, Катин сынок, уже изнывали от нетерпения. Когда же можно будет сесть за стол и с наслаждением съесть завтрак, серую кашу на воде и кусок хлеба с половинку ладошки, чуть присыпанный сахаром-песком.
Скромная еда… так у остальных жителей деревни и того нет на столе.
Вместе с войной пришел страшный голод в мирные деревни. Немцы грабят местных, без всякой жалости отнимают все съестные припасы подчистую. А за сопротивление – расстрел на месте.
К общему столу не торопилась только семилетняя Варя, дочь Екатерины. Девочка долго и надрывно кашляла за печкой. Болела она уже несколько месяцев, с того самого дня, как в деревню вошли немцы.
– Мама, а ты завтракать будешь?
– Теть Ань, до чего хлебушек вкусный! Вот бы еще кусок!
Детские голоса щебетали звонко, наполняя большой дом радостью и беззаботностью. Будто и не было войны, оккупации. И они, как и раньше, живут в доме, поделенном на половины для двух семей, весело и дружно. Муж Анны еще не пропал без вести на фронте, а ее брат и муж Катерины не погиб при наступлении.
Женщина тяжело опустилась на лавку. Хоть желудок и сводило от голода, но сердце ее сжималось от недоброго предчувствия.
Когда же закончится во.йна и эта ежедневная пытка, когда каждый день золовка идет на каторгу, а Анна провожает ее взглядом? И ничего изменить не может…
***
Началось все в сентябре, когда переводчик при немецком коменданте Степанов объявился в деревне. В то осеннее утро немецкий патруль согнал всех баб на поле на уборку картошки.
До чего же тяжело, собирать урожай и знать, что ни картошинки из этих мешков твои дети не увидят. Все окажется на столах у гитлеровцев, а им и дальше мучиться от голода, считать каждую крошку хлеба, горстку муки.
Как вдруг на поле появился он, Степанов, в форме, с повязкой на рукаве, а следом идут фашисты с автоматами наперевес. Анна помнила мужчину хорошо. Как не помнить, считай, земляк.
До войны она часто ездила к родственникам в райцентр. Соседом их был учитель истории, которого тогда уважительно называли Борисом Ефимовичем, по имени и отчеству. А как пришел Гитлер на советскую землю, так из учителей Борис Степанов сбежал в переводчики. Потом поднялся до помощника при гитлеровском коменданте, назначенном управлять на захваченной советской территории.