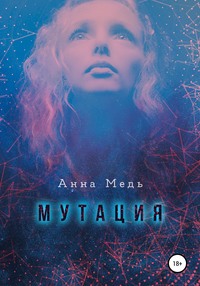Полная версия
Женская доля
– Чего удумала, маята бабская все! Вожжами враз лечится. Отцу помогает, как и положено, чтобы в счете меня не обманули конторские. А то знаю я их, десять пудов считают, а двадцать берут.
Дуняша вздрогнула от отцовского окрика и голову опустила низко, глаза спрятала…
– Погляди-ка, что с ней! – Настасья указала на седые волосы дочери. – Может, сглазил кто, к ворожее отвести бы.
– Молчи, баба! – рявкнул Степан. – Чего ей сделается?! Пускай лучше в хлев идет за скотиной убирать. Рассупонилась, растеклась киселем, удумала себе хворь! Лишь бы бездельничать на печи. А ты с ужином управляйся, все вокруг нее вьешься. Кормилец домой пришел, а она жеребице нос утирает подолом.
Он ухватил огромной пятерней дочь за плечо и толкнул к двери.
– Ишь, первая прибежала к столу вечерять, хворая нашлась! Дров принеси печь топить!
***
Дуняша смотрела на отца и молчала. Хоть и дрожали у нее губы, слезы по щекам катились. Замахнулся Степан:
– Чего встала, упрямица? Я из тебя дух вышибу! Отцу перечить удумала!
– Степан! Не надо! – Настасья бросилась на защиту дочери, повисла на руке у мужа.
Да вспыльчивый он, удержу нет, если разозлить. Оттолкнул жену и снова замахнулся на дочь: учить таких надо уму-разуму, как положено, кулаком али вожжами! Кормит ее, поит, а она волком смотрит на отца.
И снова его остановили… Теперь стук в сенях. Степан было рот открыл горланить опять, но стук повторился – властный, требовательный.
– Степан Михалыч, открывай!
От звука знакомого голоса Степан побледнел, быстро одернул рубаху. Это без упреждения заявился новый управляющий из барского имения – Кирилл Иванович!
Зыркнул на своих баб хозяин избы, чтобы по углам разбежались. И кинулся кланяться гостю. Пусть и незваный, но какой важный. Три дня назад появился в их деревне, с хозяйством знакомится.
Кирилл Иванович, высокий, статный, в добротном сюртуке, с тростью в руке, застыл на пороге. Степан поклонился ему в ноги.
– Кирилл Иванович! Милости просим! Проходите, гостем будете!
От былого гнева и следа не осталось, голосок медовый, лицо благостное. Управляющий вошел в избу, его серые внимательные глаза сразу уставились на черную с проседью Дунину голову. Степан грозно зыркнул на жену – а ну, исчезните! И засуетился перед управляющим ласковым псом:
– Уж простите, не ждали вас, Кирилл Иванович.
Без крика уже обратился к жене.
– Настасья, ты бы Дуняшу в горницу отвела, пусть приляжет.
***
Мать под руки повела дочь подальше от чужих глаз. Дуняша шла покорно, только у порога оглянулась. Взгляд ее встретился со взглядом управляющего и… Кирилл Иванович отвел глаза.
А Степан тем временем заискивал перед гостем:
– Чайку не желаете? Настасья, самовар раздувай!
– Некогда мне, – управляющий присел на лавку. – Дело есть к тебе, Степан Михалыч. Мельница твоя мне приглянулась. Хочу в найм ее взять на годок-другой. Урожай большой, заказов много со всей волости. А у тебя…
Управляющий усмехнулся.
– Очереди нет. Говорят, цены ломишь до небес.
Степан прищурился. Вот так удача! Если мельницу в откуп отдать барину, так и самому работать не надо – спину гнуть, мешки таскать, а денежки те же! Но для солидности указал:
– Согласен я на такой уговор. Но за счет барина починки все, а то вернете переломанное, я в убытке останусь.
Кирилл Иванович только усмехнулся, до чего до денег жадный этот Степан, верно про него в деревне говорят, за рубль с чертом подружится.
– У меня тоже условие есть, – Кирилл Иванович постучал тростью по полу. – Мне помощник нужен надежный. Чтобы грамоте был обучен.
Мельник почесал в голове:
– Так в конторе-то барской счетоводов хватает. Я сам, ваше благородие, считать умею, а азбука с письмом мне не надобны в работе.
Только вот Кирилл Иванович вдруг уставился на Степана черными, колючими глазами:
– А что дочка твоя грамоте разве не обучена?
Крестьянин замялся.
– Дунька… грамотная. Покойный дед ее, дьякон, научил.
– Вот и славно, – мужчина поднялся на ноги и кивнул на занавеску, за которой притихли Дуняша с матерью. – Пусть завтра же в контору ко мне в усадьбу явится. Вечером, как стемнеет, жду ее. И одна чтобы явилась, ты вместе с нею не таскайся. Обойдемся без лишних глаз.
***
Настасья за занавеской так и ахнула. Какой же счет в ночи-то! Знамо дело, для чего девку могут без пригляду родительского заманивать…
Едва управляющий вышел из избы, кинулась крестьянка к мужу.
– Догони ты его, откажись! Дуняша хворая, лица на ней нет. И так замордовал ее работой, таскаешь с собой в контору барскую. А теперь одна будет туда ходить?
Да и нехорошо это, чтобы незамужняя девка крестьянская по ночам к господам шастала, – она перешла на шепот. – А если совратить он ее захочет, к блуду склонит? Позор такой, на порченой-то кто женится? Только будут насмешничать да ворота дегтем мазать. Нашей Дуняше, красавице!
В ответ на ее уговоры Степан только дернул плечом:
– Уймись. Пойдет, куда велено! Слышала, что управляющий сказал? На год мельницу наймет, а то и на два. Еще и заплатит втридорога, уж барин то за копейку не торгуется, как эти лапотники. Каждый день мне сетуют, что дорого за помол беру. Тошно слушать.
***
Настасья залилась слезами. В памяти всплыло, как она сиротой росла, без родни, без защиты.
Потому и пошла за Степана, хоть и не люб он ей был, грубый и жадный. Так и терпела всю жизнь от него тычки да крики, некому было заступиться, некуда деться. А дочке еще страшнее он судьбу хочет… В полюбовницы к управляющему!
Она кинулась мужу в ноги:
– Помилуй, Степан, ведь кровинушка она твоя, дочь родная. Зачем ее на грех отправляешь ради денег? Ведь Федор, кожемяки брат, с тобой про Дуняшу уговаривался. Они любят друг друга. Он парень хороший, ради свадьбы на заработки в город поехал, вот-вот вернется, сватов пришлет. А после такого какое венчание, какой жених… Никто на порченой не женится! Да всякий пальцем ткнет или плюнет.
Но Степан и слушать не хотел жену.
– Глупая! Не смей выть! На кой Федька этот нужен, ни кола ни двора. Из богатств одни руки. А тут управляющий сам, он же человек при барине! За счастье почитай, что Дунька ему приглянулась! Подати платить не буду, мельницу починят. Да я первым богатеем стану в волости!
В отчаянье вскинулась Настасья:
– Она же больная!
– Поправится! – отмахнулся Степан. – Главное, чтобы управляющему угодила.
Несчастная вскинулась против мужа:
– Не пущу я ее!
Степан шагнул к жене, глаза налились кровью.
– Это еще почему?
– Хворь у нее! Не даром же седая вся стала! Лечить ее надо, к травнице вести.
Но Степан одним движением толкнул жену к печи.
– Помалкивай да к горшкам своим иди. Управляющий дочку к себе требует, так пойдет! Чай не барыня.
***
Жена решила Степана умаслить, принялась собирать поспешно ужин. Хоть руки так и ходят ходуном от обиды и страха за дочку.
– Ведь не для работы ее зовут, мешки считать. Там и писарей, и учетчиков хватает. Сам знаешь, для чего Дуня управляющему. Сколько девок по господским усадьбам пропало! Уж ты ему скажи, упроси, чтобы не трогал девку. Всю жизнь же изломает ей. Никто не женится на такой.
Степан замахнулся ложкой на нее
– Цыц! Еще слово – прибью! Решишь хитрить, спрячешь Дуньку, так Митьку в призыв первым отдам! Мне писарь в конторе должен, договоримся. Скажу, что бунтует, родителей не слушает. В первую очередь его забреют! Будешь знать, как мужу перечить.
Настасья побледнела. Что же ее муженек творит!
Митька – единственный сын, надежда и опора. Восемнадцать лет парню, самое время жениться, хозяйство крепить. И в солдаты… Заберут – так пропал человек на долгие года службы.
Она едва дождалась, пока муж отужинает и завалится спать на полатях.
Ноги и руки ее не слушались, сердце колотилось, как пойманная птица. Знала она Степана, на все способен. Изверг, дочь родную продает. И сына погубит, если против его воли пойти.
***
Как захрапел Степан, кинулась мать к Дуняше.
Дочка лежала на лавке, лицо к стене. Словно неживая – ни слез, ни причитаний о своей судьбе. Глаза сухие и пустые.
– Доченька, – Настасья принялась гладить ее седые волосы. – Слышала, родная, что отец говорит. Что ж нам делать-то?
Дуня отозвалась едва слышно:
– Пойду, как велено, к управляющему. Митьку не дам сгубить.
– Может, убежим? – заливалась беззвучными слезами матушка. – Ведь погубит тебя, без семьи и детей оставит. Все ради своих мешков с рожью, ради прибытков дочь родную продаст. За что нам такое горе? За какие грехи?
Дуняша молчала. Потом тихо призналась:
– Уже продал…Потому я и седая…
Дочь поседела в двадцать лет от пережитого – 2
Настасья подняла голову, не понимая, о чем говорит дочка. А Дуня наконец заговорила о том, что лежало на душе камнем третий месяц:– Уже продал меня отец. Ничего не исправишь.
– Не впервой мне такое, мамань. Отец уже давно возит меня в контору барскую, с самого начала лета, как Федя уехал. Чтобы писарь и счетчик ему пуды лишние насчитывали и приписывали по бумагам.
– Что же они с тобой делают, окаянные? – Настасья зажала ладошкой крик, что рвался изо рта.
Дуняша отвернулась к стене:
– Не спрашивай, тяжко говорить. Стыдно…
Мать схватилась за сердце:
– Что же ты молчала?
– Митьку берегла и тебя, – Дуняша натянула на седую голову платок. – Отец грозился в солдаты его отдать, а тебя в приют. Вот и терпела…
***
За окном сгущалась ночная темнота, выстывала изба от осеннего холода. Но Настасья позабыла про печь. Сидела возле дочери, гладила ее по голове, сквозь слезы шептала молитвы. Обе и не заметили, как задремали.
На печи храпел Степан, и во сне он перебирал деньги. Те, о которых мечтал весь вечер. Звенели монеты, шуршали ассигнации. Амбары его были набиты зерном до самой крыши, и купался он в реке изо ржи.
Скрипнула дверь, и в избу прокрался младший – Митька. Все лицо в синяках и ссадинах, рубаха порвана. Кое-как утерся рушником и улегся на лавку, а перед сном показала спящему на полатях отцу кулак. Ух, завтра, он ему устроит!
Не зря по деревне слухи ходили… Поначалу он не поверил, даже в драку кинулся да добрые люди объяснили, как Степан свое добро копит. Теперь-то он, Митька, правду всю знает… и молчать не будет.
– Отца учить вздумал! – с размаху отец влепил сыну затрещину.
***
Наступило утро.
Митька, и без того весь в синяках, сжал кулаки.
– Не дам ни сестру, ни мать в обиду! Я обо всем теперь знаю. Ненавидят тебя в деревне, душишь ты народ и обираешь. Полные закрома ржи, десятки мешков зерна, а людям есть нечего. Ты их обманул! Ты их обобрал!
– Против отца поднимаешься! – Степан недобро усмехнулся. – А я тебя в солдаты! Сейчас же с обозом отправлю. Я в деревне главный, у меня вы все вот.
Огромный его кулак взлетел в воздух, выбирая, кого первого ударить – сына или жену, что прикрывала мальчишку. Степан и Митька набычились и стояли друг против друга. Между ними металась Настасья:
– Опомнитесь! Грех какой!
Спозаранку сцепились отец с сыном между собой, стоило лишь Митьке открыть глаза и увидеть угрюмое лицо Степана. Тотчас же паренек бросился к нему с криками и обвинениями, а Степан лишь отмахнулся, мальчишка его жизни учит. И со всей силы зарядил оплеуху щенку – пускай знает свое место.
Но Митьку удар не остановил, он дальше криком заходился от ужасной правды об отце.
До драки дело едва не дошло! Как за окном раздался конский топот и грохот сапог. Скрипнула дверь, и снова объявился управляющий. Не один, с ним исправник.
Исправник вышел первым слово держать:Настасья обняла дочь, прижала к себе. Митька встал перед ними, заслоняя от беды.
– Собирайся, Степан. С нами поедешь на допрос. Жалоба на тебя поступила. Дочь свою, говорят, на блуд понуждаешь.
– Кто сказал? Врут! – заметался Степан по избе.
Исправник повернулся к Дуняше:
– Скажи-ка, девка, правда ли, что отец тебя возил для дел греховных в контору?
***
Дуняша молчала, только прижималась к матери. Дрожала как осиновый листочек и бледнела все сильнее. Управляющий, что прибыл вместе со слугой закона, шагнул к перепуганной девице:
– Ну что молчишь, ведь вчера привозил тебя отец утром ко мне. А потом и вовсе согласился в полюбовницы отдать мне навсегда.
Тут Дуняша не выдержала… Закричала страшно, нечеловечески, упала на пол! Забилась в судорогах, разметалась седая коса. Мать кинулась над ней хлопотать, вместе с сыном отнесла несчастную за занавеску.
– Вот тебе и ответ! Поехали на допрос! – исправник уже готов был арестовать Степана.
Тот бросился к ногам управляющего.
– Помилуйте! Я же для вас старался! Вы сами велели эту дуру отправить в контору одну без лишнего пригляда.
Но Кирилл Иванович брезгливо отстранился:
– Дурак! Думал, я твою девку под себя возьму? Я дворянин! Зачем мне крестьянская подстилка?
– Так зачем же требовали? – изумился мельник.
– Барин велел приглядеть за тобой. Слухи до него дошли, что дочку под наших работников подкладываешь, а они за то тебе лишние барыши считают. Вот я и проверил, продашь ли дочь мне за протекцию. Продал! О сговоре вашем теперь мне все известно. Власти сообщников твоих арестовали, твоя очередь настала!
***
Рядом рявкнул исправник:
– Не только за дочку, а еще и сам ты обвиняешься в растлении и понуждении к блуду. Он приоткрыл дверь и кликнул вдову Аксинью, что таилась до сих пор в сенках.
Ступил она в избу, полная, под платьем выпирает круглый, тугой живот.
– Он это, мельник Степан. Ко греху меня склонил, отказывался зерно давать, пока не согласилась на прелюбодеяние с ним. Ребенка ношу от него, а он отрекается! И про Дуняшу все знаю! Сам хвастался, как, мол, дочку в барскую контору возит, велит ублажать тамошних работников!
***
Настасья ахнула. Митька сжал кулаки. Степан замер как громом пораженный, он же самый умный, хитрый, обдурил всех! Как дознались?
– Я и людей созвала! – крикнула Аксинья. – Пусть все знают, какой он! Натерпелись от него. Голодать заставлял, драл втридорога и обманывал на мельнице всю деревню.
– Молчи! – заорал Степан.
– Не замолчу! Хватит молчать! Все село знает, как ты нас обманываешь! На нашем горе наживаешься. Дети у людей мрут, мужики с бабами в поле надрываются, а ты обвешиваешь да воруешь последнее!
Дверь распахнулась, в избу ввалились мужики. Человек двадцать, а то и больше. Впереди – Иван Савельич, отставной солдат.
– Вот он, кровопийца! – крикнул кто-то из толпы.
– Сколько лет нас обирал!
– Дочку родную продал!
– Открывай амбары, показывай, сколько ржи утаил. Мешков у него до потолка, а у нас в деревне впроголодь люди маются.
Исправник нахмурился.
– Это что за сборище? Расходитесь!
– Не расходимся! – Иван Савельич выступил вперед. – Мы сход собрали и мельника судить сами будем!
– Без волостного правления не имеете права!
– А волостной уже едет, – пообещал кузнец. – Мы ему весточку послали, прописали грехи все, что тут творятся.
Степан озирался, как затравленный зверь.
– Врете! Все врете! – лицо посерело, на лбу выступила испарина.
Но толпа напирала:
– Последнюю копейку дерешь!
– С мельницы нажился! Мешок муки мелешь, а отдаешь половину!
– Баб замучал, требуешь не только деньгами платить, еще и подол для тебя задирать.
***
Гнев народный нарастал, мужики теснились, женщины голосили.
– Тихо! – рявкнул исправник. – А то всех в холодную!
На миг стало тише. И тут раздался новый голос, молодой и звонкий.
– Что, Степан, от меня избавился, отправил на заработки. Думал, не вернусь?!
– Федор! – со второй половины избы выбежала Дуняша на встречу жениху.
Он кинулся к девушке через толпу:
– Я, Дуняша. Как узнал в городе, что с тобой беда, сразу примчался.
Степан попытался преградить ему дорогу.
– Не твое дело! Дочки я тебе не обещал!
Но Федор оттолкнул мельника:
– Сватов засылал – вы отказали из-за бедности. А теперь знаю, не она помехой была! Без благословения на ней женюсь, ваше слово не указ больше.
Дуняша поникла, прошептала едва слышно:
– Да как же можно на мне жениться после того, что было?
Федор побледнел еще больше, но не отступил:
– Что было? Что отец родной тебя продавал? Так это не твоя вина!
Степан так и взвился:
– За бедняка не отдам ее!
– А я не тебя спрашиваю! – Федор повернулся к Дуняше. – Пойдешь за меня?
Дуняша молчала, слезы текли по щекам. Какой тут ответ можно дать, сгубил ее отец. Настасья погладила дочь по седым волосам.
– Скажи, доченька. Чего молчишь?
– Не могу я, – прошептала Дуняша. – Какая из меня жена?
– Не говори так! – Федор шагнул к ней. – Ты не виновата! Слышишь? Не виновата!
***
Вперед вдруг вышел Митька. Был он неожиданно спокоен и не сводил хмурого взгляда с отца.
– Мы теперь правду про тебя знаем. Сколько девок ты погубил, обрюхатил вдову, греховодничал. Мать бил, дочку продавал, а меня в солдаты грозился сдать! С такими прегрешениями не быть тебе главой семьи, отказываемся мы от тебя и знать не желаем. Я за главного буду, и я Федора с Дуняшей на венчание благословляю.
Загудела толпа:
– Правильно! Не крестьянин он, а диаволово отродье. Одни грехи за душой.
– В холодную его!
– На мельницу не пускать!
– Из села гнать!
Степан вжался в стену, с ненавистью зарычал:
– Не имеете права! Я мельник, уважаемый человек!
Выступила вперед Настасья:
– И я против мужа пойду, свидетельствовать стану. Двадцать лет молчу! Хватит! Он меня кулаками учил! Дочку родную сгубил! От сына хотел избавиться!
Кирилл Иванович кивнул исправнику:
– Записывайте показания, он за все ответит.
Исправник скрутил мельника под крики толпы. Степан не сопротивлялся, смотрел в пол. Вместе с арестованным ушли из избы и односельчане.
Остался лишь Федор. Поклонился Настасье, протянул сверток:
– Гостинцы вам вез, пряники, мед. Дозвольте с Дуняшей наедине перемолвиться словечком.
***
Оставила Настасья вдвоем влюбленных. А Дуняша головы не поднимает на жениха, только волос коснулась своих.
– Видишь, какая стала. Не надо тебе на мне жениться. Я теперь порченая… Найди другую.
Но Федор взял ее руку:
– Только тебя люблю. Ты добрая, красивая, умная. Что случилось – не твоя вина.
Так они сидели, держась за руки. Ни разлука, ни беда не разведет. Настасья смотрела на них и тихо плакала. Может, и правда, все образуется?
***
Степана судили, дали десять лет каторги за растление и воровство. Отправили в кандалах в Сибирь, откуда он уже не вернулся. Митька вместе с матерью раздал все добро, что отец накопил в сараях. На сельском сходе пересчитали недоимки, вернули муку и деньги.
Хоть и тяжело стало жить, зато на душе чисто. Ведь из ворованного зерна ни хлеба, ни каши не съешь – поперек горла кусок встает и горчит.
Не нужна им эта горькая рожь, которая собрана ценой Дуняшиной чести.
Душу и дочку сменял Степан на добро.
Мельница перешла Митьке. Парень оказался хозяйственным, дело пошло на лад. Работал он честно, лишнего не брал. И со временем забыла людская молва прегрешения его отца, с уважением и почетом стали относиться крестьяне к новому мельнику.
Осенью справили скромную свадьбу. Дуняша ожила, на лицо ее вернулась улыбка, зацвела молодуха, оттаяла душой после того, что с ней сотворил отец. Только волосы так и остались наполовину седыми – память о пережитом.
***
Шла под венец Дуняша в белом платье, с венком на голове. Седые пряди вплетены в косы вместе с лентами – не прячет их больше, не стыдится.
Аксинья родила мальчика. Крепкого, черноволосого. Настасья после родов пришла к ней с вышитой рубашкой для крещения младенца. Зла не держала на вдовицу, не от хорошей жизни та на прегрешение с чужим мужем решилась.
– Расти сыночка честным человеком, – попросила она Аксинью. – Чтобы не был как отец.
Та от такой доброты расплакалась:
– Простите меня, Настасья Петровна. Я ведь тоже виновата.
– Бог простит. Живи, расти сына. Мы поможем.
Жизнь потихоньку налаживалась.
Митька взял в жены тихую девушку из соседней деревни. Настасья нянчила внуков – сначала от Дуняши, потом от сына. И внуки ее росли здоровые, веселые. Не знали они того ужаса, что пережили их родители.
Забыли все о Степане, семья Настасьи стала в деревне уважаемой, никто слова дурного не скажет. Только иногда, глядя на седые волосы дочери, Настасья вспоминала то страшное время. И думала, почему добрым людям достается столько горя?
Но жизнь брала свое. Дети росли, хозяйство крепло. А в далекой Сибири на каторге доживал свои дни бывший мельник. Говорят, совсем с ума сошел. Все дочку звал, прощения просил. Но было поздно, не отмолить такие прегрешения.
Дуня часто учила молодых женщин:
– Не молчите, бабоньки. Зло от молчания только крепнет. Заступайтесь друг за дружку. Вместе – сила.
И женщины слушали, кивали. Знали – Дуня правду говорит, на себе зло от отца испытала.
Никто не поможет – 1
Больно, как же больно! Схватки накатывали волнами, заставляя ее то выгибаться дугой, то припадать к шаткому дну телеги. Прасковья корчилась, искала руками какое-то спасение, но пальцы лишь размалывали в труху гнилую солому.
Осенняя распутица превратила дорогу в месиво, и колеса то и дело застревали в глубоких колеях. При каждом толчке молодая крестьянка вскрикивала и хваталась за живот.
– Марфа Степановна, остановитесь! – взмолилась она к свекрови, что застыла изваянием на передке телеги. – Христом-Богом прошу, дайте передохнуть!
Свекровь даже не обернулась на ее крик… Сидела прямая как жердь и хлестала вожжами по взмыленным бокам лошади. В ее движениях была какая-то лихорадочная решимость, словно за ними кто-то гнался.
– Не дотерплю я! Вот-вот разрожусь! Остановитесь! – простонала несчастная роженица.
***
Прасковья попыталась приподняться, но новая схватка припечатала ее к соломе. Перед глазами поплыли красные круги. Она закусила рукав старенькой тужурки, чтобы не пугать и без того измученную лошадь криком.
Господи, за что такая мука?! И помощи попросить не у кого, кроме свекрови! Муж Петр на поденной в дальней деревне. Раньше чем через неделю не вернется. Свекрови же прижгло вдруг тащить невестку на сносях по разбитой после дождей дороге. С утра запрягла лошаденку и погнала Прасковью в телегу, мол, едем в уездную больницу за тридцать верст.
– В деревне Акулина-повитуха есть! – пыталась остановить ее Прасковья. – Что мне в больнице делать?
– Акулина пьяная, неделями не просыхает. Да ей не детей, а поросят только принимать, – отрезала Марфа. – В больнице врачи ученые, знают свое дело. Первенец у тебя, пригляд хороший нужен.
Странно это было…
Марфа всегда скупилась на каждую копейку. Даже на пеленки разрешила только старые изношенные рубахи пустить. Хорошо, что Петр не жадный, из заработанных денег все для малыша купил. И колыбельку своими руками смастерил – стоит она в сарае, ждет ребеночка.
Свекровь же все ворчала, что нельзя заранее, примета плохая. За каждый рубль корила невестку, что потрачен был в ожидании первенца. Как вдруг решила везти Прасковью в дальнюю больницу… Где за все платить надо.
Вот и приключилась в дороге беда – растрясла до родов беременную.
***
Дорога петляла между осенними полями. Жнивье чернело под низким свинцовым небом. Ветер гнал морось по воздуху, обсыпая телегу влагой. Но осеннего холода Прасковья не чувствовала. Боль схваток скручивала роженицу так, что в глазах стояла темнота, тело ходило ходуном по дну телеги. Ей казалось, что внутри что-то рвется, готовое вот-вот выйти наружу.
Она снова простонала через потуги:
– Остановитесь! Ребенок идет! Я чую уже!
Свекровь обернулась – лицо ее было белым как мел, глаза лихорадочно блестели.
– Потерпи еще немного! Вон и город виднеется!
И правда, впереди уже показались первые домишки предместья. Правда, Прасковье было все равно – хоть город, хоть чистое поле. Боль скручивала ее в тугой узел, не давая думать ни о чем другом.
Старая телега загромыхала по булыжной мостовой. Прохожие с любопытством провожали взглядами молодую крестьянку, которая стонала и металась на подстилке из старой соломы. Кто-то крестился, кто-то качал головой.
Старая Марфа же не обращала внимания на косые взгляды. Нахлестывала лошадь, подгоняя ее бежать из последних сил. По городским улицам они добрались наконец до больницы. Она располагалась на окраине города – длинное приземистое здание с облупившейся штукатуркой. У ворот дежурил сторож в засаленном тулупе.