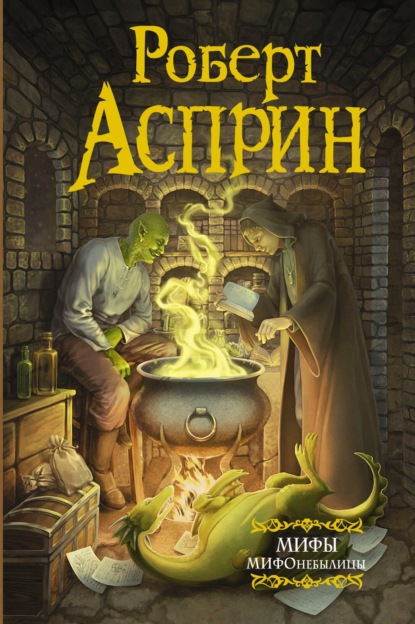Полная версия
Утопия-модерн. Облик грядущего
Однако сам не понимаю – почему, но у меня складывается убеждение, что любимая им женщина прекрасна. Они полюбили друг друга еще в детстве, но расстались и встретились уже взрослыми. Он хорошо уразумел внешние признаки жизни и был застенчив, невинен и неспособен к светским успехам. Но он полюбил ее сильно и мечтал об этой любви. Любила ли она его – этого я никак не мог разобрать. Мне кажется, что это было одно из тех неярких, не то дружеских, не то влюбленных чувств, которые мы стараемся внушать хорошо воспитанным барышням. Но неожиданно наступила развязка. Человек, который стал ее мужем, появился внезапно и не таил свою страсть. Он был старше ее на год или два и обладал умением достигать намеченной цели. Он имел уже некоторое значение в графстве и был на пути к богатству. Насколько я уразумел из слов ботаника, его привлекала только ее внешняя красота, а на душу было глубоко плевать.
По мере того как ботаник говорил, мне представлялись все действующие лица этой драмы и вся их буржуазная сытая обстановка. Я видел их воскресные собрания после церкви (мужчины в цилиндрах, сюртуках, с аккуратно свернутыми зонтиками), их редкие вечера, на которых дамы надевали открытые платья. Я воображаю себе, как они жили, пили, ели, читали глупые романы, сентиментально вздыхали над ними. Все эти добродетельные матери, чинные отцы, тетки, дяди, его родственники, ее родственники… В этой среде я прекрасно видел моего друга – скромного, но подающего надежды молодого ботаника, – и хорошенькую, грациозную девушку, к которой обращено много взглядов. Так я представлял себе эту мирную обстановку, в которую вдруг ворвалась стихийная сила.
Появившийся вдруг опытный мужчина, третий лишний, быстро добился своего, и эта девушка решила, что никогда не любила ботаника, испытывала к нему только дружбу – хотя она мало что знала о значении этого прекрасного слова! Последовала разлука, трогательная, не без слез. Ботанику не пришло и в голову, что девушке может даже понравиться завязнуть в канве обыденной, непримечательной жизни по распорядку – да и она ничем не выказала этого, строго говоря.
Он сохранил ее фото, и память о ней жила в его любящем сердце. Если же когда-нибудь ему случалось увлечься и отступить на шаг-другой от верности ей, то тогда он еще с большей ясностью сознавал, кем она могла бы стать для него.
И вот они встретились снова – восемь лет спустя.
Тем временем мы подошли к нашей первой гостинице в Утопии. Что нас ждет! Но друг мой ботаник, то повышая, то понижая голос, все треплет меня за руку, и я все продолжаю рассеянно слушать его, не в силах сосредоточиться на внешнем мире.
– Доброй ночи, – обратились к нам на всемирном языке Утопии два мелодичных голоса, и я отвечаю им:
– Доброй ночи…
– Вы понимаете, – продолжает ботаник, – я видел ее неделю тому назад. Я встретился с нею в деревне, когда ожидал вас там. Я говорил с нею всего три-четыре раза. Она изменилась, это факт… и все равно – не могу отделаться от мыслей о ней ни днем, ни ночью. Ее муж – грубый, бесчестный человек, ко всему тому еще и пьяница. У них в доме – постоянно ужасные сцены, он всячески оскорбляет ее…
– Это она вам проговорилась об этом?
– Нет, мне рассказали другие. Он настолько гадок, что, не стесняясь ее присутствием, увивается за другими – ужасно, ужасно!
– Что же, это так и будет продолжаться? – перебил я его.
– Увы…
– А должно ли это продолжаться?
– Вы о чем?
– О том, что рыцарь – вот он, и его дама сердца в беде. Почему бы вам не разрешить эту проблему и не отбить ее? – Читатель должен при этом вообразить мой героический голос и жесты. Увлекаясь, я положительно забываю, что попал в Утопию.
– Что вы говорите? – воскликнул мой спутник.
– Увезите ее. Неужели ваши чувства стоят чего-то, если вы не способны даже на это?
Ботаник явно теряется.
– Думаете, мне… мне стоит бежать с ней?
– Конечно. Это будет лучшим доказательством ваших чувств.
На какое-то время мы замолчали. Мимо нас пронесся электрический трамвай и осветил на минуту его скорбное и испуганное лицо.
– Это все прекрасно только в романах, – произнес он наконец. – Но могу ли я после этого возвратиться к себе в лабораторию, которую посещают молодые девушки? Как могли бы мы жить, да и где? Конечно, мы могли бы обустроиться в Лондоне, но никто бы нас не захотел посещать… К тому же вы совсем не знаете ее… Это не такая женщина… Не думайте, что я уж слишком робок или придаю слишком большое значение условностям. Не думайте, что я… не считайте меня… Нет, вы даже не можете понять, что чувствует человек в таком положении…
Он умолк и затем злобно вскрикнул:
– Иногда я готов задушить его своими собственными руками, вот что!..
Ну куда это годится!..
Он поднял свою худую ботаническую конечность и угрожающе потряс кулаком.
– Дружище… – вновь начал я, даже позабыв на миг о чудесах Утопии.
§ 5
Но возвратимся опять в Утопию. Речь у нас шла о способах передвижения.
Кроме шоссе, железных дорог и трамваев, для тех, кто пожелает путешествовать, будет еще много других путей и возможностей. Везде будут широкие судоходные реки, по которым смогут ходить самые разнообразные суда. По каналам будут сплавляться буксиры. Также и многочисленные озера с лагунами вовлекутся в процесс, полные курортных яхт; пассажирские пароходы, делающие не менее тридцати узлов в час, станут беспрестанно совершать рейсы по океану – способные принять на борт огромное число людей.
В Утопии начнут также пользоваться и летательными машинами. Мы, обитатели Земли, должны быть крайне благодарны Сантусу-Думонту[13]; теперь мы куда охотнее верим в грезу о продвинутом воздухоплавании, чем еще пятилетие назад. И, несмотря на то, что в Утопии наука, несомненно, будет стоять выше нашей, все-таки она, вероятно, будет находиться в той же фазе проб и ошибок, что присуща Земле. Однако в Утопии для научных исследований будет существовать настоящий профсоюз (или, если угодно, лига) специалистов, тогда как на Земле это предоставляется слепому случаю. Энтузиасты проводят исследования, и иногда случай им благоприятствует, а беспринципные хваты эксплуатируют их – вот как обстоит это дело на Земле. Сдерживает этот процесс только некоторое количество бедных хватов – хотя хватает и изобретательных бедняков.
Но в Утопии человек науки, особенно движимый идеей обуздать стихии, место всегда себе найдет. Визионерский «Дом Соломона», презентованный Бэконом в «Новой Атлантиде», станет вполне реальным. Все университеты в мире начнут трудиться над разрешением тех или иных утилитарных проблем. Сообщения об экспериментах, такие же полные и оперативные, как телеграфные оповещения о крикетных турнирах в Англии, будут «летать» из одного угла Утопии в другой, литература по специальным научным вопросам достигнет беспрецедентных тиражей.
Все это будет проходить, так сказать, за сценой нашего первого опыта, за этой первой картиной урбанизированной долины Урсерен. Невидимые в этих сумерках, немыслимые нами до сих пор, тысячи людей за тысячами сияющих столов посвящают силы служению науке – и для них в Утопии существует узконаправленная пресса, что постоянно просеивает, сгущает и расчищает почву для дальнейших опытов, теорий и спекуляций. Все, кто заинтересован в улучшении путей сообщения, чутко следят за открытиями в воздухоплавании – и это не только аэрофизики, но и физиологи, и антропологи…
В Утопии научный процесс по праву можно наречь сверхскоростным, тогда как у нас на Земле он плетется со скоростью осла, обученного играть в жмурки. Еще до того, как короткий вояж в Утопию завершится, мы сможем увидеть быстрые всходы тех идей, которые на момент нашего прибытия сюда только-только разрабатываются. Уже завтра, вполне возможно, или послезавтра некое безмолвное далекое нечто проскользнет в поле зрения над горами, заложит вираж – и взлетит, и снова исчезнет за пределами нашего изумленного взора.
§ 6
Но мой друг и его великая печаль отвлекли меня от этих вопросов о передвижении и связанных с ними свободах. Вопреки своей воле я ловлю себя на том, что подстраиваюсь под его дискурс. Он – самый обычный влюбленный, чисто английский тип, воспитанный на чтении сентиментальных романов и – в большей степени – на исполненных скромности, но довольно-таки фрагментарных биографиях современных английских писательниц.
Мне кажется, что в Утопии у влюбленных найдется больше силы, у них отрастут могучие крылья и они не будут ограничены сугубо приземленными вопросами. Они приучатся взлетать высоко над бытом – и по своему желанию нырять снова в самую его пучину. Мой ботаник не может вообразить себе таких перспектив, ибо он заперт в незримой клетке – как и многие ему подобные. Каков их предел? Что является для них воспрещенным, что дозволенным? От каких предрассудков освободимся мы в Утопии – я и он?
Мысль моя течет свободным, тонким потоком, как бывает в конце насыщенного дня, и пока мы молча идем к нашей гостинице, я блуждаю от вопроса к вопросу – и обнаруживаю, что крепко впутался в бытовые страсти. Я обращаю свои вопросы к самому трудному из всех наборов компромиссов, к тем смягчениям спонтанной свободы, которые составляют законы о браке, к тайне уравновешивания справедливости и блага будущего среди этих неистовых и неуловимых страстей. Где здесь баланс свобод? Я на время отхожу от утопизации вообще, чтобы задать вопрос, на который Шопенгауэр ведь так и не ответил вполне: откуда появляются те пылкие желания, приводящие иногда человека к гибели и разрушению.
Я возвращаюсь опять от потока бесцельных мыслей к вопросу о свободевообще, но теперь рассматриваю его с иной стороны.
Ботаник со своей несчастливой любовью окончательно покинул мои мысли, и я задаю себе новый вопрос: как будут относиться в Утопии к нравственности? Давным-давно доказано Платоном, что принципы государственной власти лучше всего видны в вопросе о пьянстве, самом обособленном и менее сложном, чем все остальные. Платон разрешает этот вопрос тем, что некоторым дозволяется, а некоторым – строго воспрещается распитие спиртного. Однако эту меру можно применить только в очень маленьком государстве, где индивидуумы будут связаны своего рода круговой порукой. Ныне, когда особенно сильно развиты индивидуальная собственность и любовь к переселению, чего, конечно, не мог предвидеть именитый философ, мы можем рассматривать его решение только как рекомендацию взрослому человеку узнать по себе, что можно, а что нельзя. Как показала практика, проблема пьянства так не решается.
Я думаю, что данный вопрос в Утопии будет отличаться от своей постановки на Земле лишь в части ряда факторов. Цель, коей будут стараться достигнуть в Утопии, будет та же, что у нас: поддержание общественного порядка и благопристойности, сведение этой нехорошей привычки к возможному минимуму, охранение малолетнего населения. Однако на Земле все противники возлияний забывают о важном социологическом факторе. В моей Утопии низшие полицейские служащие не получают в свое распоряжение власти, которая могла бы вредить обществу – такой власти нет даже в руках судьи. Они не совершают глупой ошибки, обращая продажу напитков в источник государственного дохода. Никто не станет вторгаться в частную жизнь, но некоторое ограничение в употреблении алкоголя и в его публичной продаже будет иметь место. Сбыт спиртного несовершеннолетним будет считаться тяжким преступлением. В Утопии-модерн, где население много путешествует, гостиницы и рестораны обязательно будут под строгим контролем – как и железные дороги.
Гостиницы будут обслуживать исключительно приезжих, так что мы, по всей видимости, не столкнемся в Утопии ни с чем, подобным царствующему в той же Англии безрассудному «алкогольному произволу». Пьянство в общественных местах будет осуждаться чрезвычайно строго. Всякий проступок, совершенный в нетрезвом состоянии, будет наказываться строже, чем провинность трезвого. Но я сомневаюсь, пойдет ли Утопия дальше в этом направлении. Вопрос, должен ли взрослый человек пить виски, вино, пиво или вообще какое-либо спиртное, будет решаться исключительно этим человеком – и ответственность ляжет на его совесть. Я полагаю, что мы не встретим в Утопии пьяниц – но точно повстречаемся с людьми, которые знают толк в самодисциплине. Условия физического благополучия будут лучше поняты в Утопии, чем у нас – там будут больше ценить здоровье, и люди сами будут следить за своими интересами.
Доказано, что пьянство наполовину происходит от желания отречься от тягот жизни и скрасить печальные дни и безнадежное, томительное существование, но в Утопии грустного прозябания не будет. Конечно, жители Утопии будут умеренны не только в питье, но даже и в еде. Полагаю, однако, вполне возможным достать при желании хорошего забористого виски или чего-то аналогично крепкого. Мнекажется, что можно – но ботаник, человек непьющий, придерживается иного мнения. На сей почве разгорелся спор, решение которого предоставляю читателю. Я питаю искреннее уважение ко всем трезвенникам и к ярым противникам зеленого змия, я с понятным сочувствием отношусь к их личному примеру, от коего предвижу большую пользу для всеобщего блага, но все же…
Взять хотя бы для примера бутылку хорошего бургундского – мягкого душистого вина. Разве она не похожа на солнечный луч, осветивший ваш завтрак, особенно если перед этим вы проработали без отдыха целых четыре часа и аппетит достиг пределов почти невозможных?
А эта кружка пенящегося эля, после того как вы прошли по мокрой, грязной дороге около десяти миль?
Или, например, разве это уж такой большой грех – выпить раз пять в году стакан темного портера, особенно когда созреют грецкие орехи? Если нельзя пить портер, то кому же тогда нужны вообще грецкие орехи, эти горькие странные штуки?
Такие прегрешения я считаю лучшим вознаграждением за долгое воздержание. Ведь если всего этого избегать, то вы оставите пустой страничку в той книге, которую Господь отпустил на всякую душу – и где, я уверен, есть графа и для вкусовых ощущений. Конечно, я должен сознаться, что все это я исповедую как сибарит и, вернее всего, заблуждаюсь. Осознаю и свою неспособность к самодисциплине – да любой лондонский разносчик газет с легкостью меня переплюнет в этом вопросе. Сам я только и знаю, что грезить о мировом благоустройстве – сам по себе труд не в тягость, но даже в нем отыскивается подчас некая монотонная нота, требующая разбавления. Нет, решительно не могу я представить жителей Утопии пьющими исключительно лимонады и настойки. Все эти жуткие «трезвые» напитки, смесь убойной дозы сахара с водой и газом – они, может быть, и надувают своих любителей чувством собственного превосходства, но вредны ничуть не менее.
Общепризнан в Америке факт, что кофе расстраивает мозговую деятельность и почки, а чай, исключая зеленый, который рекомендуется примешивать в умеренном количестве к пуншу, стягивает внутренности и превращает порядочные желудки в каучуковые мошны. А мне, если хотите знать, кажется стопроцентно верной позиция Мечникова: качество жизни напрямую зависит от желудочного здоровья. И если вдруг в Утопии нет славного эля, я изберу единственный напиток, какой можно приравнять к хорошему вину – простую воду.
Ботаник, тем временем, твердо стоит на своем.
Слава Богу, это моя книга, и окончательное решение остается за мной. Он может хоть написать свою собственную утопию и сделать так, чтобы все ничего не предпринимали, кроме как с согласия ученых Республики, в вопросах еды, питья, внешнего вида и жилья – строго по Этьену Кабе. Я решаюсь на маленький эксперимент, который решит наш спор – и на стойке гостиницы интересуюсь у учтивого, но отнюдь не подобострастного хозяина (этак осторожно, с приличествующей двусмысленностью), можно ли тут раздобыть кой-чего.
– Ну что, мой дорогой трезвенник? – говорю я, окидывая друга победным взглядом. Мне подают поднос с высоким бокалом. Глубокий «ох» исходит из нутра возмущенного ботаника.
– Да, пинта отличного светлого пива! – смеюсь я. – Есть в Утопии и пирожные, и эль! Так выпьем же за то, чтобы в этом прекрасном мире никогда не было излишеств, знакомых нам по Земле! Выпьем особенно за наступление того дня, когда земляне научатся различать качественные и количественные вопросы, согласовывать добрые намерения с добрым умом, а праведность – с мудростью. Ведь одно из самых гнусных зол нашего мира – это, несомненно, беспросветная дикость понятия о благе.
§ 7
Скорее в постель – и спать. Но, право, нельзя же так сразу – лечь и отключиться. Сперва мой мозг, как собака на новом месте, должен «утоптать» себе место. Странные тайны мира, о котором я все еще знал донельзя мало – горный склон, сумеречная дорога, движение странных машин и смутных форм, свет окон многих домов, – напитывают меня любопытством. Лица, виденные мной, прохожие, хозяин этой гостиницы, чуткий и миролюбивый, чей взгляд выдает все же крайнюю степень заинтересованности, – все как на ладони. Я чувствую, сколь моему существу непривычны устройство и обстановка этого дома, вспоминаю незнакомые блюда. За пределами этой маленькой спальни – целый мир, невообразимый новый мир. Легионы самых шокирующих открытий ждут меня в обволакивающей здание гостиницы темноте, и где-то там же – немыслимые возможности, упущенные соображения, неожиданности, несоизмеримости, тайны, целая чудовищная запутанная вселенная, которую я должен изо всех сил разгадать.
И вдруг из суматохи непривычных предвосхищений выплывает образ ботаника, столь поглощенного своей корыстной страстью, что вся Утопия для него – лишь фон личной драмы, посвященной несчастливой, доканывающей любви. Я напоминаю себе о том, что и у его дамы сердца где-то здесь есть эквивалент. Но вскоре эта мысль, а за ней – и все другие, истончается и расплывается – и растворяется, наконец, в приливе сна…
Глава третья
Экономика Утопии
§ 1
Эти утописты Модерна с всеместно распространенными хорошими манерами, всеобщим образованием, прекрасными свободами, которые мы им припишем, их мировым единством, мировым языком, кругосветными путешествиями, не стесненным ничем механизмом купли-продажи, будут представляться нам сумеречными фантомами, пока не продемонстрирована способность их сообществ к самоподдержанию. Общая свобода утопистов, во всяком случае, не подразумевает повальное тунеядство; как бы ни был совершенен экономический уклад, принцип порядка и безопасности в государстве всегда будут основаны на уверенности в том, что работа будет выполняться. Но как – и какой будет экономика Утопии-модерн?
Во-первых, такому огромному и сложному государству, как мировая Утопия, и с таким мигрирующим населением потребуется какой-нибудь удобный знак, чтобы контролировать распределение услуг и товаров. Почти наверняка им понадобятся деньги. У них будут деньги, и не исключено, что при всех своих горестных мыслях наш ботаник, с его натренированной наблюдательностью, с его привычкой разглядывать мелочи на земле, приметит и поднимет здешнюю монету, выпавшую из кармана путника – где-нибудь за час до того, как мы дойдем до гостиницы в долине Урсерен. Итак, вот мы с ним стоит на высокой Готардской дороге – и разглядываем мелкий кругляш, способный прояснить для нас столь многое о том причудливом мире, в который мы угодили.
Он, как я полагаю, из золота, и будет удобной случайностью, если его будет достаточно, чтобы сделать нас платежеспособными гражданами на день или около того, пока мы мало что знаем о здешней экономической системе. Круглая монета, судя по надписи, называется «Лев» и равняется «дванцати» бронзовым «Крестам». Если соотношения металлов здесь не сильно отличаются от земных, «Крест» – разменная монета, законное платежное средство на весьма скромную сумму.
(Мистеру Вордсворту Донисторпу[14] было бы одновременно неприятно и приятно, будь он здесь с нами, ибо фантастические меры «Лев» и «Крест» принадлежат ему – но, как всякий порядочный анархист, термины вроде «законное платежное средство» он терпеть не может, от подобных слов у него прорезается сварливость.)
И вот это-то чуждое «дванцать»[15] сразу наводит на мысль, что мы столкнулись с самой утопической из всех вещей – с двенадцатеричной системой счета.
Пользуясь привилегией автора, дозволяю себе подробно описать монету: произведение чеканного искусства – вот что перед нами, ни много ни мало! На одной стороне мелкими, но отчетливыми буквами обозначен номинал, а посередине изображена голова Ньютона. Вот оно, будь неладно, американское влияние! (Потом нам рассказали, что в Утопии ежегодно чеканят монеты в честь столетнего юбилея какого-нибудь ученого.) На оборотной стороне монеты изображена Пасифея[16], красавица с ребенком на одной руке и с книгой – в другой. За фигурой богини видны звезды и песочные часы. Похоже, утописты – народ гуманистичный, раз такая жизнеутверждающая незлобивая символика вынесена на монету!
Таким образом, мы впервые с уверенностью узнаем о Мировом Государстве, а также получаем первый ясный намек на то, что Королям пришел конец. Но наша монета поднимает и другие вопросы. Значит, в Утопии существует не общность владения, а действуют некоторые ограничения права приобретения, то есть – оценка предметов денежными единицами? Экое старье, архаика! Так много устаревшего в этой якобы современной Утопии-модерн!..
Во всех предшествующих Утопиях золото яростно осуждалось. Вспомним, сколь убогое применение в своей Утопии предлагал ему сэр Томас Мор – и как Платон в «Республике» совсем не признавал денег (когда он писал свои «Законы», в общине, которой они назначались, были в ходу железные, весьма неизящные и сомнительной ценности монеты). Возможно, эти великие джентльмены были немного поспешны и чересчур несправедливы по отношению к весьма респектабельному элементу.
Золотом злоупотребляют, превращают в сосуды бесчестия – потому оно и исключено из идеального общества, как если бы было причиной, а не орудием человеческой низости; но ведь и в золоте нет ничего плохого. Его клеймение и порицание – это попросту наказание топора за преступление Раскольникова. Деньги, если ими правильно распорядиться – это хорошая и даже необходимая вещь в цивилизованной человеческой жизни, сложно устроенная, но столь же естественная, как процессы роста запястных костей человека, и мне невдомек, как можно представлять что-либо достойное названия цивилизованного мира без денежных единиц. Ибо они – вода в социальном организме, они способствуют росту и обмену веществ, движению и регенерации. Деньги примиряют человеческую взаимозависимость со свободой; какое другое средство дает человеку такую большую свободу вкупе с таким сильным побуждением к труду? Экономическая история мира – там, где она не является историей теории собственности, – в значительной степени представляет собой отчет о злоупотреблениях не столько деньгами, сколько кредитными средствами для их пополнения и расширения масштабов этого ценного социального изобретения. Никакая система «трудодоверия», описанная Беллами в девятой главе «Оглядываясь назад», никакой свободный спрос на товары Центрального Универмага не урезают многократно объем врожденного «морального шлака» в человеке, с коим нужно считаться в любой разумной Утопии, какую только можно разработать и спланировать. Лишь Бог знает, куда нас приведет прогресс, но во всяком случае в моей Утопии-модерн деньги еще в ходу – и это хорошо.
§ 2
Теперь, если мир Утопии-модерн хоть в какой-то степени параллелен современному мышлению, нужно разобрать целый корпус нерешенных проблем, связанных с валютой и с мерой стоимости. Золото, думаю, из всех металлов лучше всего приспособлено для денежной цели, но даже в этом лучшем случае оно далеко не соответствует вообразимому идеалу. Оно подвергается скачкообразному и неравномерному обесцениванию вследствие новых открытий месторождений и в любое время может пасть жертвой обширного, непредвиденного и крайне сокрушительного обесценивания вследствие открытия какого-либо способа его получения из менее ценных элементов. Ответственность за такое обесценивание вносит нежелательный спекулятивный элемент в отношения должника и кредитора.
Когда, с одной стороны, на какое-то время останавливается увеличение наличных золотых запасов и/или рост энергии, прилагаемой к общественным целям, или ограничивается общественная безопасность, что препятствовало бы свободному обмену кредита и, очевидно, потребовало бы более частого производства золота, тогда и происходит чрезмерный скачок стоимости денег по сравнению с базовыми товарами и автоматическое обнищание граждан в целом по сравнению с классом кредиторов. Простые люди заложены в долговую кабалу.
С другой стороны, нежданный всплеск золотодобычи, находка одного-единственного самородка величиной, скажем, с собор Святого Павла (вполне возможное событие!) приведет к освобождению всех должников и спровоцирует настоящее землетрясение в финансовых кругах.