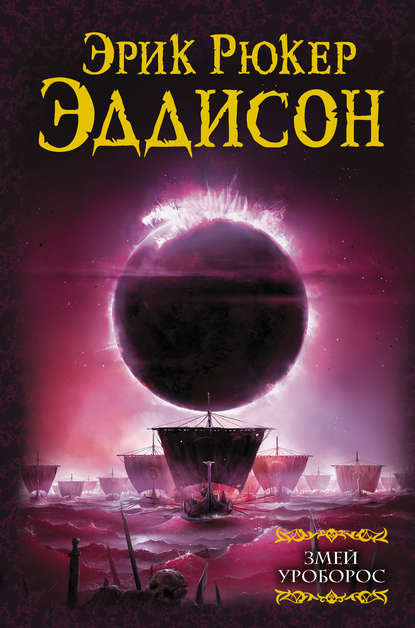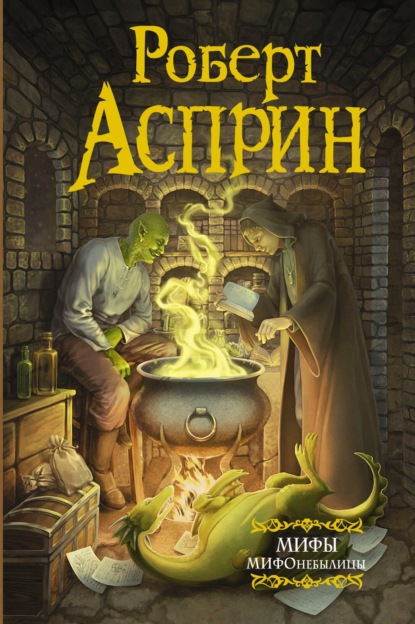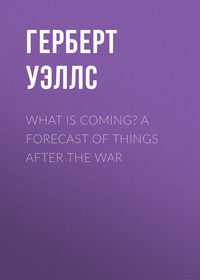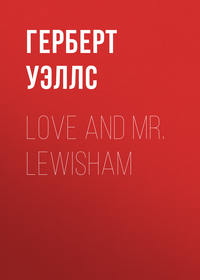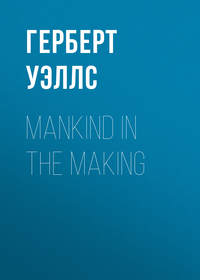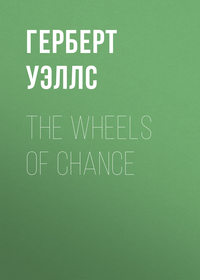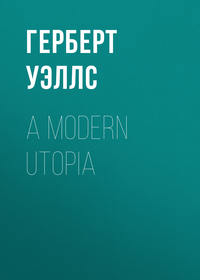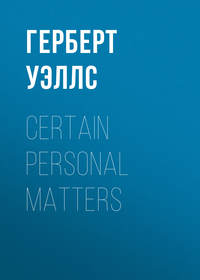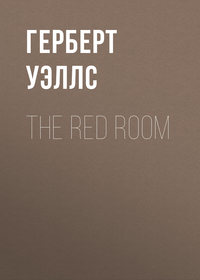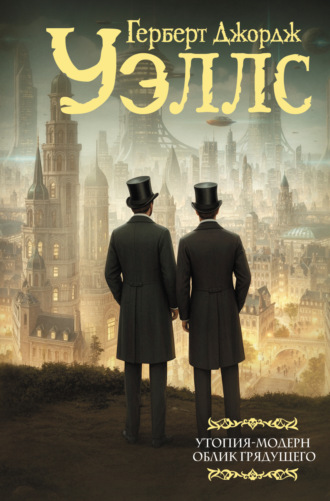
Полная версия
Утопия-модерн. Облик грядущего

Герберт Джордж Уэллс
Утопия-модерн. Облик грядущего
Перевод с английскогоГ. Шокина («Утопия-модерн»), В. Трушникова («Облик грядущего»)
© Перевод. Г. Шокин, 2025
© Перевод. В. Трушников, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
⁂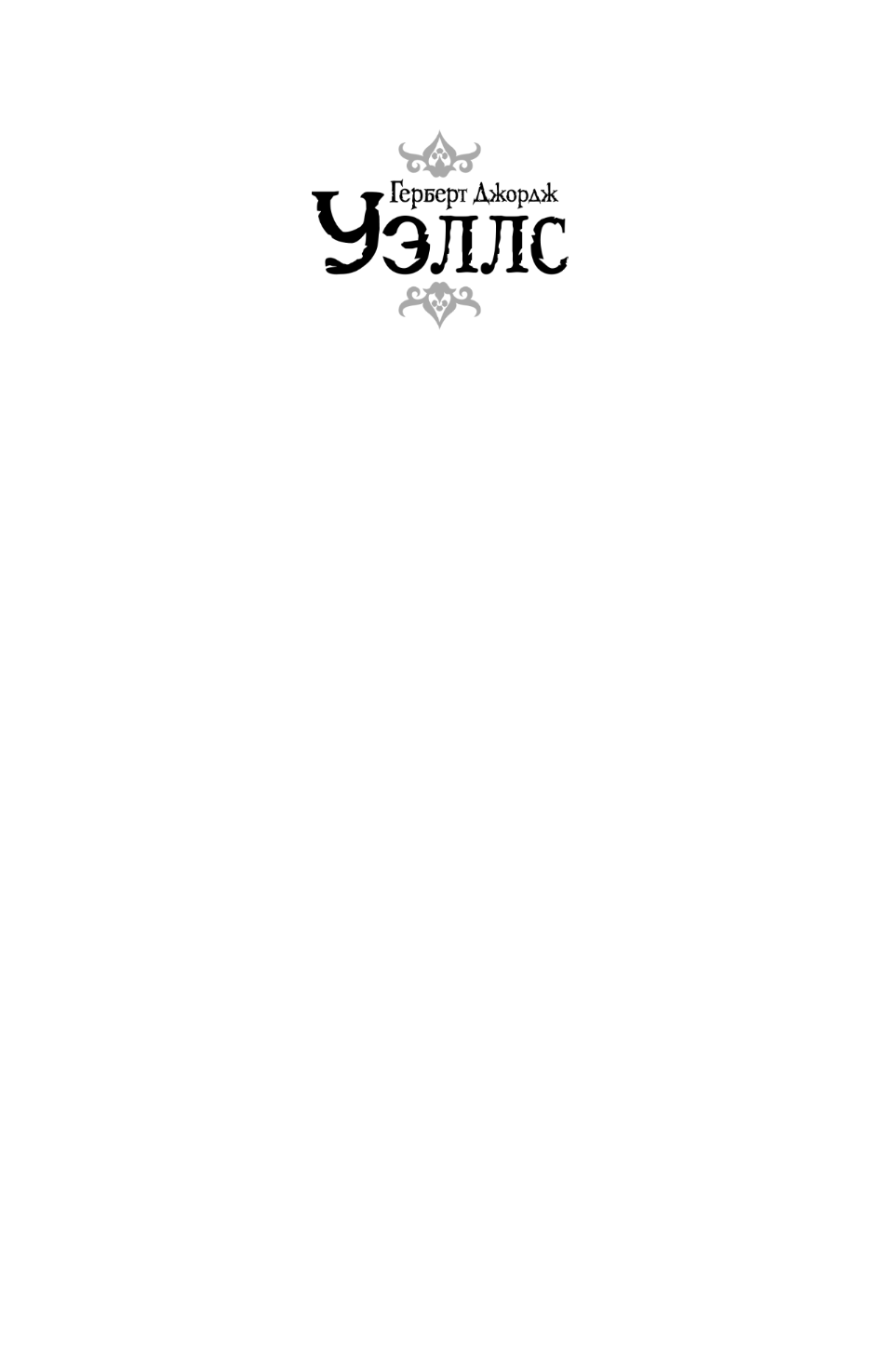
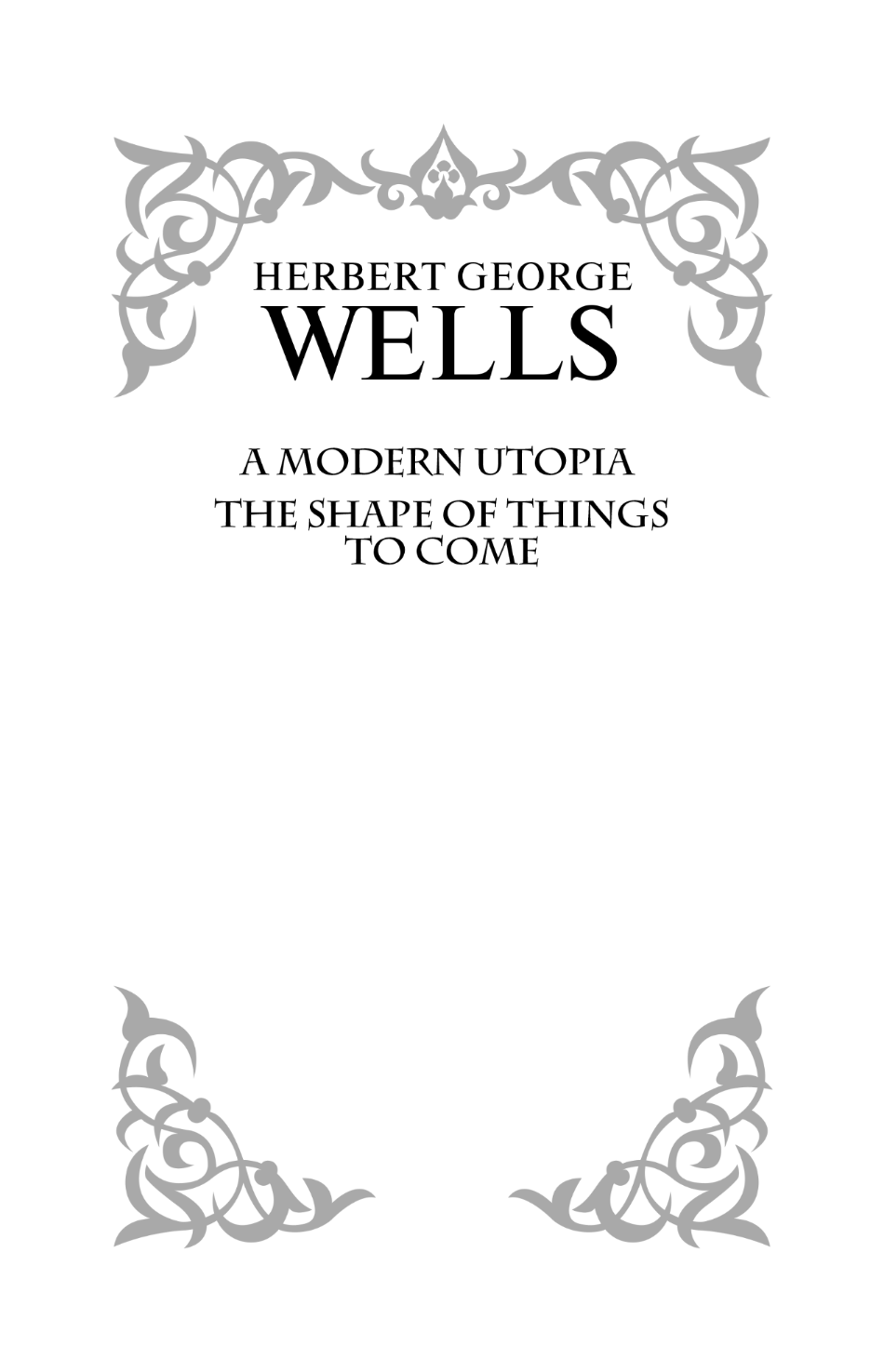
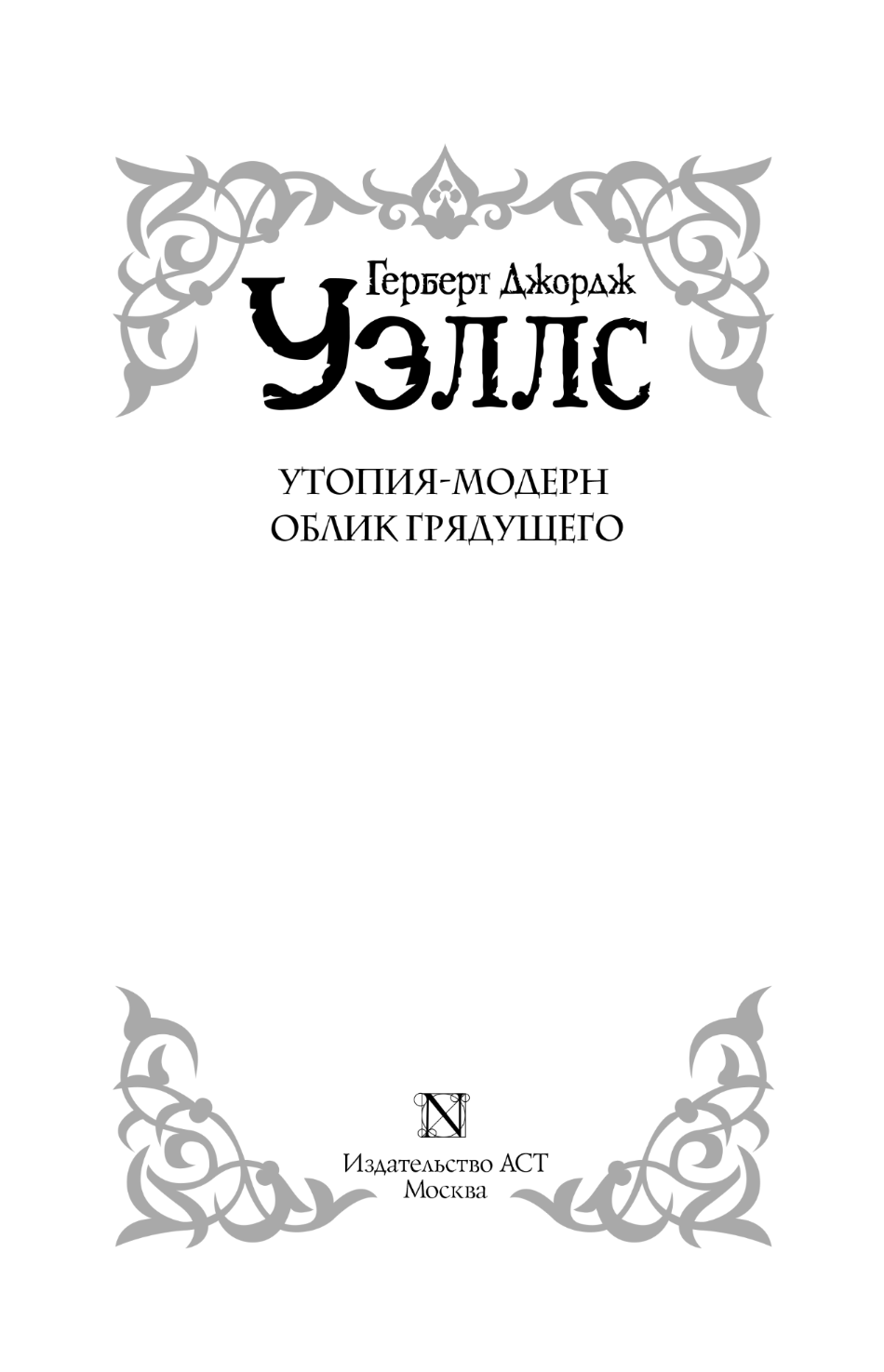
Утопия-модерн[1]
Примечание для читателя
Эта книга, по всей вероятности, является последней из серии сочинений, началом которых, если не принимать во внимание некоторые ранее разрозненные эссе, были мои «Предвидения»[2]. Первоначально я планировал, что «Предвидения» будут единственным отступлением от моего искусства или ремесла (назовите как хотите) писателя с богатым воображением. Я написал эту книгу для того, чтобы прояснить путаницу в своем уме по поводу бесчисленных социальных и политических вопросов, вопросов, которые я не мог не включить в свою работу, которых мне было неприятно касаться глупо-случайным образом и к которым никто, насколько мне известно, не обращался таким образом, который меня бы устроил. Но «Предвидения» не достигли своей цели. У меня медлительный конструктивный, нерешительный склад ума, и когда точка была поставлена, я обнаружил, что большинство вопросов, которые нужно сформулировать и решить, до сих пор со мной. Таким образом, в книге «Человечество в процессе создания»[3] я пытался по-иному рассматривать общественную организацию, рассматривать ее скорее как воспитательный, нежели стерильно-исторический процесс, и если эта вторая книга вышла еще менее удовлетворительной с литературной точки зрения, чем первая (таково даже мое мнение), в этом случае я сплоховал, как мне кажется, более назидательно – по крайней мере, в моем представлении. Я отважился затронуть несколько тем с большей откровенностью, чем в «Предвидениях», и вышел из этой второй попытки виноватым во многих необдуманных высказываниях, но со значительным развитием сформированного мнения. Во многих вопросах я, наконец, укрепил определенную личную уверенность, с которой, чувствую, и буду жить до конца своих дней. В этой книге я попытался свести счеты с рядом проблем, незатронутых двумя ее предшественницами; исправить их в некоторых деталях и дать общую картину утопии, которая сложилась в моем уме в ходе этих рассуждений – утопии как положения дел одновременно возможного и более желательного, чем мир, в котором я ныне живу. Но эта книга снова вернула меня к творчеству. В двух ее предшественницах отношение к социальной организации было чисто объективным; здесь мое намерение было немного шире и глубже, поскольку я попытался представить не просто идеал, но идеал в реакции с двумя личностями. Более того, поскольку это может быть последняя книга такого рода, которую я когда-либо опубликую, я вписал в нее, насколько это возможно, еретический метафизический скептицизм, на котором основано все мое мышление; дополнил некоторые разделы, отражающие установленные методы исследования, социологическую и экономическую научную часть…
Я знаю, что последние четыре слова не привлекут массового читателя. Я сделал все возможное, чтобы сделать эту книгу настолько ясной и интересной, насколько это позволяет ее содержание, потому что хочу, чтобы ее прочитало как можно больше людей. Но не пророчу ничего, кроме фрустрации и замешательства тому, кто решит с ней легковесно «ознакомиться» без должного внимания. Да и если вы в определенной степени заинтересованы социальными и политическими вопросами, здесь вы не найдете для себя ничего нового или интересного. Если ваше мнение по этим вопросам уже «железно» сформировалось, прочтение «Утопии-модерн» лишь отнимет у вас время. И даже если вы просто любознательный читатель, вам может потребоваться немало терпения для восприятия того своеобразного метода, который я выбрал на этот раз.
Метод довольно-таки хулиганский, но он не так небрежен, как кажется. Я считаю – даже теперь, когда я закончил книгу – что лучший путь к чистой неопределенности, которая всегда была моей целью в этом вопросе, строится именно так. Потребовалось несколько подходов к написанию утопической книги, прежде чем принял его. Я с самого начала поступился формой насыщенного аргументами эссе, той формой, которая больше всего нравится так называемому «серьезному» читателю (который часто всего лишь надменно-нетерпелив и набивает себе цену на приобщении к «значимым» вопросам и тенденциям). Такой читатель любит, когда для него все нарисовано жирными линиями, черным по белому – он не понимает, как много есть того, что вообще нельзятак преподать. Везде, где есть нечто неопределенное или несоизмеримое, где есть легкомыслие, юмор или сложность мультиплексного представления, он перестает быть внимательным. Похоже, этот тип уверен, что Дух Творения может считать только до двух – и никаких альтернатив не признает. Такому читателю я даже и не пытаюсь угодить в этой книге – иначе что дальше, представлять все свои триклинные кристаллы в виде систем кубов? Увольте!
Но, отвергнув «серьезное» эссе как форму, я все еще сильно колебался – несколько месяцев, по факту, – обдумывая схему этой книги. Сначала я испробовал общепризнанный метод рассмотрения вопросов с различных точек зрения, который всегда привлекал меня и который мне никогда не удавалось использовать, метод написания этакого романа-дискуссии. Но он обременил бы меня лишними персонажами и неизбежным запутыванием интриг между ними, и в итоге я отказался и от него. После я попытался упорядочить его по образцу дилогии «Жизнь Сэмюэла Джонсона» Джеймса Босуэлла, где решающую роль играло взаимодействие между монологом и тем, кто его комментирует. Вырисовывалось почти то, что нужно, но и этот метод претерпел крах…
И вот я задумался над тем, что лично мне захотелось назвать«жестким нарративом». Опытный читатель заметит, что если убрать иные спекулятивные и метафизические элементы и проработать суть, этот текст мог бы быть ужат до рассказа. Но рассказ многое теряет, да и потом, почему я должен всегда потворствовать вульгарному аппетиту до откровенных, быстро читаемых историй? Вот «Утопия-модерн» и явилась на свет. Я пускаюсь во все эти объяснения единственно для того, чтобы дать понять читателю: какой бы странной ни казалась эта книга при первом рассмотрении, она является результатом проб и размышлений, и ей суждено быть такой, какая она есть.
Собственно, во всех своих литературных начинаниях я стремлюсь к своего рода сплаву философского трактата и традиционного литературного повествования.
Герберт Джордж УэллсГолос автора
Е сть труды (и этот труд как раз таков), которые лучше всего начинать с портрета автора. Грядущее читательское непонимание, вполне, замечу, естественное, не оставляет иного выбора. В каждой строке, что ждет впереди, звучит особенно личная нота, подчас переходящая в диссонанс, но все эти строки, равно как и эти набранные курсивом слова, суть единый Голос.
Так вот, этот Голос, и в этом особенность дела, не следует принимать за Голос мнимого автора, приходящегося сему сочинению отцом. Вы должны очистить свой разум от любых предубеждений в этом отношении. Хозяина Голоса вы должны представлять себе как упитанного белого мужчину, в средних летах, среднего телосложения, с голубыми, как и у многих ирландцев, глазами, юркого, с зачатками облысения – такими, что удастся скрыть под монеткой в один пенни. И еще, конечно же, у этого мужчины большой выпуклый лоб.
Временами он падает духом, как и большинство из нас, но по большей части держится храбро, как голодающий воробей. Временами для лучшего пояснения своих слов он прибегает к оживленной жестикуляции. А его Голос, наш проводник с сего момента – тенор без особой харизмы, подчас звучащий чересчур резко.
Представьте его сидящим за столом и читающим «Утопию» – рукопись, в которую он вцепился обеими руками, полноватыми уже в запястьях. Именно над этим типом занавес и поднимается. И если сия литературная проба окажется взаправду выдающейся, вместе с ним вы переживете немало интересных, дух захватывающих приключений. Тем не менее, раз за разом будете вы возвращаться к этому столику и к рукописи в полноватых руках, и спор об «Утопии» будет разгораться вновь и вновь. Текст перед вами – не художественное (в том привычном смысле) произведение, но и не конспект лекций, за которым не грех и вздремнуть. Текст этот – нечто среднее.
Представьте себе нашего обладателя Голоса, нашего Глашатая, сидящим с робким, несколько нервным видом за столом, поставленным на сцене. На столе том, конечно же, есть стакан воды и всякие писчие принадлежности. Теперь вообразите, что я – назойливый дознаватель, с учтивой безжалостностью берущий «вступительное слово» перед тем, как отойти за кулисы. Представьте, что за нашими спинами – белый экран с проецируемыми на него картинами, иллюстрирующими приключения души Глашатая в дивном краю Утопии. Представили, вообразили? Что ж, теперь вы чуть-чуть подготовлены хотя бы к некоторым трудностям этого недостойного, но экстравагантного сочинения.
Кроме автора, в книге появится еще один гражданин Земли, чья личность прояснится в том случае, если читатель получит о нем предварительные сведения. Этого джентльмена называют ботаником, он худощав и лишнего слова не обронит. Его лицо отличается особой затаенной красотой, он пасмурен, светловолос и сероглаз. В нем можно заподозрить подлого романтика – из тех, что стремятся и скрыть свои желания, и вместе с тем выставить их в вопиюще сентиментальном свете. Если предположите, что этот человек ввязывался в значительные неурядицы и неприятности из-за женщин, вы не ошибетесь.
«Утопия-модерн» выступит фоном для двух этих фигур в фокусе. Да, здесь у нас не столько представление, сколько кинематографичный этюд. Создается впечатление, что эти двое мужчин прохаживаются в кругу света от неисправного уличного фонаря; канут во мрак – но в следующий момент снова на виду, снова транслируют нам свое анимированное утопическое послание, полное условностей. И даже когда свет совсем гаснет, Голос звучит и звучит, споря, вопрошая, требуя внимания, и свет возвращается-таки, и тогда вы снова обнаруживаете себя в обществе упитанного человечка за столом, старательно читающего вслух строку за строкой… и только теперь занавес поднимается по-настоящему.
Глава первая
Границы Утопии
§ 1
Труд модерниста-утописта сегодня должен непременно отличаться в фундаментальном аспекте от всех тех трудов, созданных людьми до того, как Дарвин всколыхнул мировоззрение по всей планете. Прежние статичные Утопии представлялись этакими диорамами, где счастье давалось всем и каждому, а присущие реальным вещам хаос и непокой были исключены из картины. В них одно здоровое невзыскательное поколение сменялось другим, наслаждаясь плодами земли в атмосфере добродетели и счастья, и так – покуда боги не захандрят. Ветры Перемен не дули в тех краях, а реки Развития навсегда встали у несокрушимых плотин. Так вот, Утопия-модерн не должна быть статичной; кинетика – все для нее. Она выстраивается не как постоянное состояние, а как обнадеживающая фаза, уводящая далее, к целому циклу этих фаз. Ныне мы не боремся, не преодолеваем течение мощного жизненного потока, а плывем по нему; наш идеал – не врытая в землю, ноплавучая цитадель. Вместо уклада, при котором люди радуются всеобщему счастью, безопасному и гарантированному им и их детям навеки, мы должны найти и осуществить гибкий всеохватный компромисс, при котором постоянно новая последовательность индивидов может наиболее результативно влиться в акт всестороннего поступательного развития. Таково первое, наиболее обобщенное отличие утопии, основанной на современных представлениях, от всех утопий, написанных в прежнее время.
За нами теперь – стать живыми воплощениями этой Утопии и воплотить одну за другой все грани этого воображаемого мира, единого и светлого. Наше намерение в том, чтобы дать жизнь чему-то не просто невозможному, а в высшей степени неосуществимому в обозримых масштабах сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы должны повернуться спиной к настойчивому исследованию того, чтоесть, и подставить лицо более вольным ветрам, к просторам того, что, возможно, могло бы быть, к проекции государства или города «где-то во времени»; к рисунку на листе нашего воображения мыслимо возможной жизни, более достойной, чем насущная. Это первая задача. Мы сформулируем некоторые необходимые исходные положения, а затем приступим к исследованию того мира, который дают нам эти положения…
Это, без сомнения, оптимистическое предприятие, но полезно на время заглушить ту придирчивую нотку, что должна быть слышна, когда мы обсуждаем текущие несовершенства – чтобы освободиться от практических трудностей, от путаницы целей и средств. Хорошо бы остановиться у тропы на минутку, отложить в сторону рюкзак, утереть иней с бровей, молвить слово о верхних склонах горы, на которую, как мы думаем, мы взбираемся – насколько хватает нам способности видеть лес за деревьями.
Не будем касаться вопросов политики и методики. Возьмем от всего подобного отпуск, так сказать. Лучше обсудим, в чем нам предстоит себя ограничить. Будь мы всецело вольны в своих желаниях – полагаю, последовали бы за Моррисом в его Ниоткуда[4], презрев природу человека и вещей. Но нет, прельщает нас раса мудрых, терпимых, благородных людей – так махнем же рукой на великолепную анархию, где каждый делает только то, что в голову взбредет; этот мир столь же хорош, сколь Рай перед изгнанием из него людей. В пространстве и времени всепроникающая воля к жизни, увы, всегда поощряет неизбывную агрессию. И тут предлагается путь определенно более практичный: взять человека со всеми ограничениями, каким мы его знаем – неважно, мужчину ли, женщину, – и поставить его против тех же, что и сейчас, проявлений звериного начала и против уже знакомой нам немилости Природы. О да, пусть наша Утопия формируется в мире смены сезонов, внезапных катастроф, смертельных поветрий и поводов для вражды; в мире, полномерно обремененном всеми человеческими страстишками. Более того, мы собираемся принять этот конфликтный мир – не занимать по отношению к нему позицию отречения и не принимать аскезу, а окунуться в него с осознанием того, что нужно выжить и победить. Наши начальные условия – не уютный конструкт, а ровно то, чем славен мир Здесь и Сейчас.
Впрочем, по примеру лучших авторов, уже создавших свои Утопии, дозволим некоторые вольности. Предположим, что тон общественной мысли может быть совершенно иным – не таким, как в современном мире; расширим ментальный конфликт жизни, оставаясь притом в пределах возможностей человеческого разума, каким мы его ныне знаем. Также развяжем себе руки в отношении «аппарата существования», который человек, так сказать, создал для себя, с домами, дорогами, одеждой, каналами, машинами, с законами, границами, условностями и традициями, со школами, с литературными и религиозными организациями, с вероучениями и обычаями, вообще со всем, что в силах человека изменить. Это и есть главное допущение всех старых и новых утопических спекуляций – «Республики» и «Законов» Платона, «Утопии» Мора, «Гостя из Альтрурии» Уильяма Хоуэллса и «Бостона будущего» Беллами, «Великой Западной Республики» Конта и «Города Солнца» Кампанеллы, «Фриландии» Теодора Герцки и «Путешествия в Икарию» Этьена Кабе. Они построены на гипотезе полной эмансипации человеческих сообществ от традиции, привычек, юридических уз и того, что влечет за собой современный причесанный аналог рабовладения. По большей части ценность перечисленных утопий – в отношении к человеческой свободе, в поощрении неугасимого и сильного порыва человечества оторваться от земли и воспарить – с его мощью противиться наследственности и прошлому, с его жаждой инициировать, стремиться и преодолевать.
§ 2
Но не стоит забывать и о весьма определенных художественных ограничениях. Всегда, во всех утопических писаниях есть некая доля сухости и «двухмерности», им часто вменяют отсутствие той полнокровности и естественности, коей отлична жизнь. Нет индивидуального подхода, все люди обобщаются. Почти в каждой утопии – за исключением, пожалуй, «Вестей из Ниоткуда» Морриса, – можно наблюдать красивые, но безликие здания, симметричную и безупречно поднятую целину, целую орду людей здоровых, счастливых, красиво одетых… и абсолютно неотличимых друг от друга. Тут на ум идут те столь популярные в викторианскую эпоху масштабные полотна, запечатлевающие коронации, королевские свадьбы и заседания парламента либо какого-нибудь научного общества – на них многие фигуры имеют вместо лица аккуратный овал с четко вписанным порядковым номером. Эффект нереалистичности – налицо, и я не вижу способа полностью устранить его. Видимо, такой недостаток остается лишь принять. Дело в том, что всякое существо (или существующее учреждение), как бы оно ни было подчас несовершенно и даже абсурдно, входя в соприкосновение с людьми, получает реальность и законность – то есть, то, чего и недостает самому совершенному вымышленному созданию. Существующее вызрело постепенно; оно далось кровью и потом, за него подчас были пролиты целые моря слез; его контуры и формы обтесаны постоянными воздействиями жизни. Нафантазированное же, сколь угодно целесообразное и нужное – слишком кондово в своих очертаниях, ограниченно, его линии и границы бескомпромиссные: ему, как ни крути, природной гибкости очень и очень недостает.
И ничего с этим не поделать! И да пусть оплакивает мудрец того своего ученика, что, хоть и был слаб мыслью, ушел от него последним. Пусть человечество падко на ухищрения ораторов, сомневаюсь, что кому-либо когда-либо всерьез станет тепло на душе от перспективы стать гражданином воспетой Платоном Республики. Сомневаюсь, что кто-либо сможет и один месяц стерпеть вездесущую рекламу добродетели, предлагаемую Мором. Все мы выходим в общество только ради индивидов, которых можем в нем найти. Плодотворные столкновения личностей есть высший смысл личной жизни, и все наши утопии – не более чем диссертации на тему улучшения этих взаимодействий. По крайней мере, так жизнь все больше и больше подстраивается под современные представления. Пока вы не привнесете индивидуальности, ничего не возникнет, и наш мир исчезнет, когда последний сколь угодно невзрачный индивид будет вовлечен в усредняющее и усмиряющее единство улья.
§ 3
Интересующая нас Утопия должна распространяться на всю планету, занимать ее от и до. Были времена, когда горное плато или остров, казалось, обеспечивали требуемую степень изоляции для того, чтобы утопическое государство могло защитить себя от влияний извне. Платоновская Республика всегда пребывала во всеоружии, в полной готовности к обороне, а Новая Атлантида и Утопия Мора, в теории, подобно Китаю и Японии на протяжении многих столетий действенной практики содержали себя в изоляции от незваных гостей. Такие поздние примеры, как сатирический «Егдин» Батлера[5] и «Презренный пол» Уильяма Томаса Стида[6], почитали тибетский метод умерщвления пытливых вторженцев вполне удовлетворительным и простым методом защиты. Сегодня мы остро осознаем, что, каким бы изощренным ни было государство, за его границами эпидемия, размножающиеся варвары или чьи-то экономические амбиции рано или поздно войдут в сокрушительную силу и возьмут верх. Так же и технический прогресс – всегда к услугам потенциального захватчика. Один скалистый остров или узкий пролив еще можно, допустим, как-то оборонять – но только до того момента, как изобретен первый универсальный летательный аппарат, способный на атаку с воздуха. Государство, достаточно сильное, чтобы оставаться изолированным в современных условиях, было бы достаточно сильным, чтобы править миром; было бы если не активно правящим, то пассивно уступчивым по отношению ко всем другим социальным организациям и, таким образом, ответственным за них целиком. Следовательно, оно должно быть мировым государством.
Таким образом, интересующая нас Утопия не может найти себе места ни в Центральной Африке, ни в Южной Америке, ни у полюсов – этих последних прибежищ идеализма. Ничего не выйдет и с плавучим островом – нужна вся планета. Лорд Эрскин, автор «Арматы»[7], был первым из утопистов, кто осознал сей факт – он соединил свою «плеяду лун» полюс к полюсу своеобразной космической пуповиной. Но современное воображение, раззадоренное физикой, должно пойти еще дальше.
Далеко за Сириусом, в глубинах космоса, дальше расстояния полета пушечного ядра, летящего миллиард лет кряду, за пределами досягаемости всяких глаз сияет звезда, которая суть Солнце для нашей Утопии. Впрочем, те, кто знает, куда направить самый мощный из существующих ныне телескоп, могут отыскать ее на небе – это слабая точка света в группе с тремя другими звездами, которые, однако, на целые миллионы миль ближе к нам. Планеты, что вращаются вокруг нее, похожи на те, что есть в Солнечной системе, но судьба у них иная; есть там и некие условные сестры-близнецы наших Земли и Луны. У Утопии, в силу какого-то необъяснимого совпадения, те же материки, что и у нас, те же океаны и моря. На ней сестра горы Фудзи возвышается над копией Йокогамы, а побратим Маттерхорна возвышается над льдистыми равнинами перевала, как две капли воды напоминающего наш Теодул. Все в такой степени напоминает привычные нам виды, что земной ботаник мог бы собрать здесь все виды земных растений – до самых ничтожных былинок, до распоследней альпийской незабудки.
Когда он соберет весь гербарий и развернется, чтобы пойти к себе в гостиницу – тут-то он и поймет, что той самой гостиницы больше нет.
Вообразите-ка: двое землян очутились как раз в таком положении. Думаю, их должно быть все-таки двое, ибо посещение в одиночку незнакомой, пусть и весьма цивилизованной планеты – дело исключительного мужества. Предположим, что эти двое переместились в иное место в мгновение ока. Вот они на одной из альпийских вершин, я да друг мой. Скажу честно, у меня слишком кружится голова при резких наклонах, и потому я не занимаюсь ботаникой, но вот мой друг носит под мышкой длинную жестянку для сбора растений. Если бы не яркий зеленый цвет, в какой выкрашен этот продолговатый ящичек, я бы принимал это его хобби охотнее, но зелень – это то, на что в Швейцарии взгляд натыкается всюду и всегда, от нее тут попросту нет спасения!
Итак, мы побродили среди скал, поболтали и решили присесть отдохнуть. Съели наши захваченные из гостиницы припасы, почали бутылку хорошего иворнского, заговорили вдруг об Утопиях – вкратце затронув все то, о чем распинался выше я. Живо представляю себе – вот мы сидим на возвышенности над проливом Люцерна, глядим вниз на Валь Бедретто, на Вилью, и Фонтану, и Айроло, что тщатся спрятаться от нас под склоном горы – тремя четвертями мили ниже по вертикали (и свет на мгновение будто померк). Абсурдный эффект «увеличительного стекла», характерный для альпийских высот, приближает к нам маленький поезд в дюжине миль, минующий виадук Биащина и направляющийся куда-то в Италию. Перевал Лукманье – слева от нас, за Пьорой, а Сан-Джакомо – справа, и оба – будто бы всего лишь тропинки под ногами…
И вдруг – глазом моргнуть не успеваешь – наша телепортация осуществляется.
Мы едва ли замечаем перемену – ни облачка ведь не сошло с неба! Может быть, далекий городок внизу примет иной вид, и мой друг-ботаник с его прирожденной наблюдательностью увидитпочти то же самое. Поезд, быть может, исчезнет из поля зрения, рисунок альпийских лугов чуть-чуть видоизменится – но замечено все это будет далеко не сразу. Думаю, каким-то неясным образом прежде зримых перемен мы почувствуем, что попали куда-то не туда, и вот тогда-то ботаник заметит:
– Странное дело, никогда прежде не замечал вон то здание справа!
– Какое же?
– Вон то. Какая у него странная форма.
– Право слово, и я теперь его вижу. И впрямь чудное строение… большущее, судя по всему – и какое красивое! Интересные дела…
На том наши пересуды об утопиях и прекратились бы, и мы бы наконец-то обнаружили, что маленькие городки внизу изменились. Но как? Мы не разглядывали их прежде дотошно, так что и теперь – не скажем наверняка. Перемены, как я уже не раз подчеркнул, еле уловимы – они в далеких мизерных очертаниях домов, в том, как сгруппирован здесь ландшафт.
– Странно… – в который раз протянул бы я, отряхивая колени и вставая с камней. Все еще озадаченный, я повернул бы лицо к тропе, вьющейся между скал, огибающей полное все еще кристально чистой воды озеро и нисходящей к горному приюту Сен-Готарда… но только где она, эта тропа?