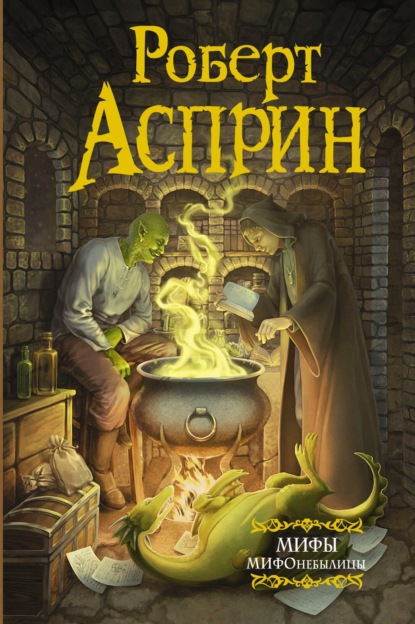Полная версия
Утопия-модерн. Облик грядущего
Задолго до того, как дойдем до нее, и даже до того, как выйдем на большую дорогу, мы получим намек на большие перемены в виде маленькой булыжной хижины в конце перевала, у грубо вытесанного из камня моста – она исчезнет или чудесным образом изменится, а козы, пасущиеся неподалеку, заметят нас и поднимут гвалт.
И вот, пораженные и изумленные, мы встретим вышедшего к нам человека – и это будет не швейцарец. Одежда на нем – крайне чуждого кроя, да и говорит он на незнакомом языке…
§ 4
До наступления темноты мы переживем немало непонятного и ошеломительного, но сильнее всех по нам ударит то обстоятельство, которое усмотрит, конечно, мой друг-ученый. Взглянув на небосклон в той собственнической манере, что свойственна человеку, который знает академическую звездную карту от альфы до омеги, он вдруг ахнет, схватится за голову и станет громко бранить подводящее зрение. Я поинтересуюсь, что же так выбило его из колеи, и он ответит:
– И ты еще спрашиваешь!.. Где Орион?
– Да вот же… – начну было я – и осекусь, потому что Ориона не видать.
– То-то же. А Большая Медведица?
И ее я не смогу отыскать в россыпи ярких звезд на небе.
– Где она, да где же… – буду бормотать я, тщетно вглядываясь в эти сполохи небесного огня, сам не свой от осознания свершившегося чуда; мой восторг уже едва выходит утаить.
Тогда, может быть, впервые мы поймем при виде этих незнакомых небес, что перемены постигли не мир, а нас самих. Да, этонас каким-то образом забросило в самые дальние бездны неизученного космоса!
§ 5
Нам нужно предположить отсутствие языковых препятствий для общения. Весь мир в Утопии, несомненно, будет иметь общий язык, простой и понятный – и, так как мы свободны от оков убедительного повествования, давайте предположим, что он либо сильно похож на наш собственный, либо его реально выучить на ходу. В самом деле, о какой Утопии речь, если ни мы никого не понимаем, ни нас не понимают? О, будь проклят языковой барьер, и к черту катись эта врожденная настороженность в глазах иностранца: «моя ваша не понимать, сэр, а потому вы есть мой враг!». Вот он, самый первый из недостатков реального мира, от которого хочется сбежать в какую-нибудь Утопию.
Но на каком языке заговорил бы мир без вавилонского проклятия?
Ударяясь смело в этакий средневековый сентиментализм, призову к ответу не кого-то там, а сам Дух Творения, что, несомненно, также обретается в этом далеком мире.
– Вы ведь неглупые люди! – начал бы Дух, и я, человек подозрительный, обидчивый, чересчур серьезный при всей моей предрасположенности к полноте, тотчас почуял бы иронию (а мой друг-ученый, готов спорить, сжал бы кулаки и встал в боксерскую стойку). – И то, что у вас развился выдающийся ум, и послужило одной из главных причин для создания мира. И если я правильно понял вас, любезные мои господа, вы предлагаете мне ускорить тут процесс эволюции, столь же полифонический, сколь и утомительный. Да, универсальный язык вам бы определенно пригодился. И раз уж мы встретились в этих горах – я вытачиваю их вот уже весь последний эон, если не больше, чтобы вам было где ставить гостиницы с живописным видом из окна, – может, дадите парочку советов?
В этом моменте Дух Творения, вне сомнений, позволит себе мимолетную улыбку, что подобна лучу солнца, пронзающему тучи, и гористая местность окрест нас осветилась бы за один миг. Знаете, как это бывает – когда в заповедных безлюдных местах соседствуют тепло и свет.
Однако же, почему улыбка Бесконечного должна повергнуть двух здравомыслящих мужчин в апатию? Вот мы тут стоим, высоколобые и ясноокие, при ногах, при руках и с пылом в сердце – и отчего же нам не верить, что если не мы сами и не наши потомки, то бескрайнее людское море, омывающее мир, придет когда-нибудь ко всемирному государству, дружбе без границ и единому языку? Давайте же в меру наших возможностей если не ответим на вопрос, то, во всяком случае, попытаемся вообразить себя в шаге от его разрешения. В конце концов, в этом и состоит наша цель – измыслить идеал и устремиться к нему, и это худшая глупость и худший, чем самонадеянность, грех – отказаться от стремления только потому, что лучшее из всего «нашего» лучшего выглядит жалким в сравнении с мощью солнца.
И вы, и мой друг-ботаник, я полагаю, склоняетесь к какому-либо «наукообразному» решению. О да, сей эпитет оскорбителен – и я интеллигентно выражаю вам сочувствие, но не думаю, что синоним «псевдонаучный» устроит вас, такого просвещенного человека, больше. Да-да, сейчас речь пойдет о лексиконах точных наук, об эсперанто, оLa Langue Bleue и новой латыни, волапюке и лорде Литтоне, о философском языке архиепископа Уэйтли, о трудах леди Уэлби, посвященных проблеме толкования – и обо всем тому подобном. Вы бы рассказали мне о поразительной точности энциклопедичности химической терминологии, и при слове «терминология» мне бы только и оставалось помянуть выдающегося американского биолога, профессора Марка Болдуина, который поднял язык биологии на такие высоты ясности, что по сей день ни один биологический труд не представляется возможным прочесть без мигрени (один лишь этот факт бросает на всю линию защиты некоторую тень).
Вы, конечно, думаете, что идеал языка – тот язык, что отличается точностью формулы из алгебры, в котором каждый отдельно взятый элемент удобно и логично повязан с любым другим. В таком Первом Научном Языке обязательно должны наличествовать все формы как правильных, так и неправильных глаголов всех спряжений. Каждое слово в нем должно быть отлично одно от другого – как по звучанию, так и по написанию.
Так как подобные требования – первое, что идет на ум, и так как основаны они сплошь на импликациях, выходящих далеко за пределы языковой области, их стоит разобрать здесь подробно. В самом деле, они зиждутся на всем том, от чего мы пытаемся отказаться в данной версии Утопии. Они подразумевают, что интеллектуальный базис человечества – вещь столь же конечная и недвижимая, сколь законы логики, системы счета и мер, общие категории и подходы к выявлению сходств и различий. Но на самом-то деле наука логика и вся структура философской мысли, которую люди сохранили со времен Платона и Аристотеля, имеют не более существенного постоянства как окончательное выражение человеческого разума, чем самый пространный шотландский катехизис.[8]
Должен предупредить, что на протяжении всей предстоящей экскурсии по Утопии вам то и дело придется что-то пересматривать. Настаивая на чем-то «единственно верном», вы имеете представление о чем-то, но не сам предмет; вспоминая про индивидуальность всякого объекта как про некую константу бытия, вы уже можете утверждать о том, что один раз его легонько коснулись, ощутили текстуру. Увы, ничто не вечно, ничто не является точным и достоверным (кроме ума педанта), совершенство есть простое отрицание той неизбежной предельной неточности, которая есть таинственное сокровенное качество Бытия. Да и само Бытие – это всеобщее становление индивидуальностей, и Платон отвернулся от истины, когда обратился к своему музею конкретизированных идеалов. Гераклит, этот потерянный и плохо понятый гигант, возможно, тоже обращался в свое время – к какому-то своему конструкту…
В том, что мы знаем, нет ничего неизменного. Мы переходим от более слабого источника света к более сильному, и каждый более мощный свет пронзает наши до поры непроницаемые основы и открывает новые и иные степени непроницаемости под их покровом. Мы никогда не можем предсказать, на какой из наших, казалось бы, надежных фундаментальных принципов не повлияет следующее изменение. Какая же блажь тогда – мечтать составить карту нашего разума в самых общих чертах, снабдить бесконечные секреты будущего «терминологией» и идиомой! Мы разрабатываем жилу, добываем и копим наше сокровище, но кто может сказать, какой пласт эта самая жила вдруг откроет? Язык есть пища мысли человека, и он имеет смысл только в процессе перехода в мысль, только в жизни своей. А вы, «люди науки», своей охотой до точных формулировок и незыблемых основ лишний раз доказываете, что с воображением у вас туговато.
Язык Утопии, без сомнения, будет единым и неделимым; все человечество, в меру своих индивидуальных качественных различий, будет приведено в одну и ту же фазу, в общий резонанс мысли, но язык, на котором оно будут говорить, будет по-прежнемуживым языком, одушевленной системой несовершенств, на которую каждый отдельный человек бесконечно мало влияет. Благодаря всеобщей свободе обмена знаниями и перемещений, развивающееся изменение в его общем духе станет изменением для всего мира; таково оно – качество его универсальности. Я полагаю, что это будет объединенный язык, синтез многих языков. Такой язык, как английский, представляет собой объединенный язык; это слияние англосаксонского и норманнского французского и латыни ученого, сшитое в одну Речь, более обширную, более мощную и красивую, чем любая ее составляющая. В прошлом дальновидный люд размышлял над вопросом: «Какой язык выживет?» Вопрос был поставлен плохо. Я полагаю, что все языки сольются воедино, дадут некое потомство… и вот оно-то – выживет.
§ 6
Этот разговор о языках, однако, является отступлением.
Мы шли по слабой тропинке, огибающей край Фирвальдштетского озера, и наткнулись вскорости на нашего первого жителя Утопии (в дальнейшем, для удобства, я буду называть этих самых жителей утопистами). Да, это был отнюдь не швейцарец. И все же онбыл бы швейцарцем на матушке-Земле, и здесь у него – то же самое лицо, но с некоторой разницей, может быть, в выражении; такое же телосложение, хотя, может быть, развитое получше; тот же цвет лица. Другие привычки, другие традиции, другие знания, другие идеи, другая одежда и другие приспособления, но, кроме всего этого – Человек. Мы с самого начала условились, что в нашей Утопии будут жить такие же, по сути, люди, как наши современники.
В этом, может статься, кроется более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд – и то характерное отличие Утопии-модерн от практически всех ее предшественников. Мы уже решили, что это будет всемирная Утопия, не меньше; тут пора припомнить тот факт, что люди на планете Земля – и у нас, соответственно, – разделяются на расы. Даже социальные низы у Платона в Республике не отличаются по расовому признаку от патрициев. Но наша Утопия – всеобъемлющая, как христианское милосердие, так что пусть будут белые и черные, красные и желтые, все оттенки кожи, все типы телосложения и характера. Как всех их, столь разных, примирить вместе – главный вопрос, но в этой главе он рассмотрен не будет: ему посвятим мы главу отдельную. Здесь же мы лишь озвучим условие: в Утопии существуют те же расы, что и на Земле, даже в той же пропорции; но, как я уже сказал, их развитие, идеалы, цели и традиции не имеют с нашими ничего общего.
Упомянем также, что расы не представляют собой нечто постоянное; раса – не толпа тождественно сходных людей, а совокупность подрас, племен и семей. Каждое слагаемое – в своем роде уникально, и эти слагаемые – опять-таки скопления еще меньших уникумов, и так до каждой отдельной личности. Таким образом, наше первое соглашение сводится к тому, что не только каждая земная гора, река, растение и зверь есть на этой планете-побратиме далеко за Сириусом, но и каждый живой мужчина, женщина и ребенок имеют здесь утопическую параллель. Отныне, конечно, судьбы этих двух планет разойдутся, здесь будут умирать люди, которых мудрость спасет там, и, может быть, наоборот, здесь мы кого-то спасем; дети родятся там, а не здесь, у них, а не у нас (или наоборот), но настоящая минута – это исходная точка. В первый и последний раз: жители двух этих планет – отражения друг для друга.
Еще бы, ибо представлять Утопию-модерн населенной идеальными манекенами с уймой добродетелей, живущими по неприменимым к действительности абсолютным законам – затея неблагодарная.
Предположим, к примеру, что в Утопии есть такой человек, каким мог бы быть я – более информированный, более дисциплинированный, лучшим образом занятый и существенно более деятельный. И у вас, мой читатель, есть там двойник, и у всех дам и господ, знакомых вам. Сомневаюсь, что мы встретимся со своими двойниками (или что нам будет приятна такая встреча); но когда мы спустимся с этих одиноких гор к дорогам, домам и жилым местам утопического мирового государства – непременно обнаружим то здесь, то там лица, особенно напоминающие нам тех, кто жил у нас на глазах.
Говорите, есть среди них такие, с кем вы ни за что не захотите иметь дел?
Ах, и вот еще что…
Ох уж этот мой персонаж-ботаник, места не знающий! Он возник между нами, дорогой читатель, как мимолетная иллюстрация – не знаю, с чего вдруг пришел он мне в голову, и вот теперь, данным мне чувством юмора, я отождествляю личность этого человека с вашей и буду впредь обращаться к вам как к Ученому, ибо это самое обидное слово в моем лексиконе. Вот он, этот персонаж-симулякр, сходит с нашей благородной спекулятивной темы и пускается в прерывистые интимные откровения. Он заявляет мне в лицо, что попал в Утопию вовсе не для того, чтобы лишний раз наткнуться на все источники своих былых горестей.
Горестей?..
Я горячо протестую: в мои намерения точно не входило огорчать кого-либо, уж точно – его персону!
Это человек, я думаю, лет тридцати девяти. Человек, чья жизнь не была ни трагедией, ни радостным приключением, с одним из тех лиц, что приобрели не силу или благородство в ходе взаимодействия с жизнью, но лишь некую абстрактнуюпечать. Особа достаточно утонченная – определенно, этим человеком больше прочитано, чем испытано и выстрадано; определенно, им больше выстрадано, чем сделано. И вот он смотрит на меня своими серо-голубыми глазами, в которых – уже! – угас всякий интерес к моей Утопии!
– Была одна прекрасная напасть, – говорит он, – что пробыла в моей жизни лишь месяц или около того… я думал, все кончено – с глаз долой, из сердца вон, а вы… а вы!..
Далее следует удивительная история о том, как он повстречал одну девушку – они были знакомы еще до того, как его удостоили звания профессора, – и как их совместное счастье пошло крахом из-за «ее родни» – вот так, отвратительно мещански, этот образованный человек отзывается о всех этих тетушках-бабушках, держащих дряхлые руки на завещаниях и чьих-то судьбах, и у него есть на то полное право, ибо как еще таких называть – не «люди» же! Да, они не одобрили их союз, и союза, как сами понимаете, не вышло.
– Думаю, на нее легко было повлиять, – говорит мой несчастный друг. – Но упрекать ее в чем-либо – тоже несправедливо. Бедняжка слишком много думала о других. Ей не хотелось никого расстраивать, а родня ее была так уверена в своей правоте…
Позвольте! Я очутился в Утопии, чтобы выслушиватьтакое?
§ 7
Нужно направить мысли ботаника в более достойное русло. Необходимо перечеркнуть эти скромные сожаления, этот назойливый мелочно-любовный пыл. Понимает ли он, что перед ним – настоящая Утопия?Обрати свой разум, настаиваю я, на эту мою планету и оставь все земные заботы Земле. Неужто он не понял мое условие? Где-то в этом неизученном мире есть Чемберлен и само королевское величество (конечно, инкогнито), и вся королевская Академия, и Юджин Сэндоу[9], и мистер Арнольд Уайт[10]…
Все эти известные имена не воодушевляют моего друга. Он даже не возражает мне по научной логике – что, мол, на самом деле сомнительно, что мы встретим кого-либо из этих двойников земных знаменитостей во время нашего утопического путешествия, шанс слишком мал, простая математика указывает на это. Более того, великие люди в этой еще неизведанной Утопии могут быть не более чем скромными фермерами в нашем мире, а земные пастухи и безвестные простолюдины – восседать здесь на престолах сильных мира сего (что опять-таки открывает уйму приятных перспектив).
Нет, ничего из этого мой друг-ботаник не сказал. Ему-то важно совсем другое.
– Знаю, – вздыхает он, – здесь она будет гораздо счастливее. И ценить ее будут больше, чем у нас, на Земле.
И вдруг мой внутренний взор отходит от политиков, критиков и прочих блистательных антрепренеров, чей образ искусственно раздут старыми газетами и истеричными репортажами – и обращается к человеческим существам с их насущными проблемами. К тем, кого можно познать с некоторым приближением к «реальному знанию», к непосредственным участникам жизни. Реплика друга обращает меня к мысли о соперничестве в любви, о нежности, о самых разных житейских разочарованиях. Внезапно я болезненно остро осознают, что нас может тут ждать. Что, если мы встретим здесь брошенную любовь, упущенные возможности – или, что хуже, увидим, как лучшие версии нас повели себя благоразумнее, чем когда-то – мы, и не лишились всего того, чем хотели бы и поныне обладать мы?
Я обращаюсь к своему другу-ботанику почти укоризненно:
– Знаешь, здесь она будет не совсем той дамой, которую ты знал в Англии. А кроме того, – всячески пытаюсь отвлечь я его от неприятной темы, вставая над ним, размахивая увлеченно руками, – шанс встретить ее где-то здесь – один на миллион; к чему о таком задумываться! У нас есть общее условие: люди, живущие здесь – люди с теми же недугами, что и мы, – живут в измененных условиях, и только. Продолжим же исследование этих условий!
С этими словами я иду по берегу Фирвальдштетского озера к нашему утопическому миру – ну, этого вы от меня и ждете, верно?
Ботаник идет за мной. Вот-вот нашим глазам предстанет долина за всеми этими горами и перевалами – и там будет мир Утопии, где мужчины и женщины счастливы, а законы мудры, и где все, что запутано и наспех набросано в делах человеческих, распутано и создано со всей любовью.
Глава вторая
О свободах
§ 1
Какой же вопрос первым делом возникнет у двух человек, очутившихся на планете, где царит Утопия-модерн? Думаю, вопрос своих личных свобод, поставленный наисерьезнейшим образом. По отношению к чужеземцам, как я уже замечал, утопии прошлого вели себя не особо любезно. Будет ли этот новый вид утопического государства, раскинувшегося на весь мир, менее опасным?
Мы должны утешаться мыслью, что всеобщая терпимость, безусловно, является идеей, отвечающей модерну, и именно на модернистских идеях зиждется это Мировое Государство. Но даже если предположить, что нас терпят и принимают как «временных граждан», все-таки нельзя списывать со счетов разного рода непредвиденные случайности. Поэтому исследуем главные принципы утопического государства, всесторонне обсудив возможные компромиссы свобод и затронув вопрос на уровне противопоставления человека государственной машине.
Идея индивидуальной свободы приобретает все больше смысла и веса с каждым витком развития современной мысли. Для классических утопистов свобода была относительно проста – ведь «добродетель» и «счастье» были для них обособленными от нее понятиями, да и просто более важными вещами. Но актуальная точка зрения, с растущим упором на индивидуальность и ее значение для человека, неуклонно увеличивает ценность свободы, пока, наконец, мы не начинаем видеть в свободе самую суть жизни – ведь лишь неживая материя, лишенная всякого выбора, живет в абсолютном подчинении закону. Располагать свободой действий для своей индивидуальности – это, с современной точки зрения, субъективный триумф существования, в той же мере, как победа над смертью через творчество и потомство – его объективный триумф. Но, памятуя о том, что человек – существо социальное, нельзя не отметить, что воля каждого индивидуума не равноценна абсолютной общественной свободе.
Совершенная человеческая свобода возможна только для деспота, которому абсолютно все подчиняются. Тогда «хотеть» означало бы «повелевать» и «добиваться», и в пределах естественного закона мы могли бы в любой момент делать именно то, что нам угодно. Всякая другая свобода есть компромисс между нашей собственной свободой воли и волей тех, с кем мы взаимодействуем. В «организованном» состоянии у каждого из нас есть более или менее сложный кодекс того, что он может делать с другими и с собой и что другие могут делать с ним. Индивидуум ограничивает других своими правами и сам ограничен правами других и соображениями, затрагивающими благополучие общества в целом.
Индивидуальная свобода в обществе не всегда, как сказали бы математики, одного и того же знака. Игнорировать это – основное заблуждение культа под названием Индивидуализм; на деле же налагаемые запреты зачастую увеличивают в государстве сумму свобод, тогда как вседозволенность – понижает ее. Из этого вовсе не следует, как хотят уверить нас закоренелые индивидуалисты, что человек более свободен там, где меньше всего закона, и сильнее всего ограничен там, где закона практически нет. Социализм или коммунизм не обязательно грозят рабством, а свободы при Анархии и вовсе не найти. Подумай, читатель, сколько свободы мы приобретаем через банальный отказ от права на убийство – и от какого сонма страхов и мер предосторожности избавлены. Если вообразить, что существовала бы даже и ограниченная свобода убивать – скажем, по праву вендетты, – страшно подумать, что бы творилось в тех же британских провинциях. Если, например, представить себе, что в каком-нибудь предместье живут-поживают две враждующие семьи, вооруженные самыми последними достижениями военпрома, следом сразу придется думать о всех тех стеснениях и опасностях, что грозят их соседям. Не участвующие в конфликте обыватели того предместья сделались бы фактически бесправными людьми. Мяснику и молочнику, если у оных вообще хватило бы духу приехать к таким людям, пришлось бы разъезжать в бронированных фургонах.
Из этого следует, что в Утопии-модерн, видящей последнюю надежду мира в развитом взаимодействии уникальных индивидуальностей, государство эффективно уничтожит как раз все те расточительные свободы, которыеурезают свободу, и ни одной свободой больше, и тем – достигнут максимальной всеобщей свободы.
Есть два различных и контрастирующих метода ограничения свободы. Первый – Запрет, «не делай», а второй – Приказ, «ты должен». Однако существует своего рода Запрет, который принимает форму условной команды, и об этом нужно помнить. В нем говорится, что если вы делаете что-то «одно» и «второе», вы также должны делать «третье» и «четвертое». Ежели вы, к примеру, решили выйти в море, вам не стоит делать это на газетном кораблике. Но чистый Приказ безусловен. Он говорит: что бы ты ни сделал, или делаешь, или хочешь сделать, тыдолжен сделать это (так плохая социальная система, действуя через низменные потребности низменных родителей и непутевые законы, отправляет тринадцатилетнего ребенка на фабрику – в режиме потогонки). Запрет берет одну конкретную вещь из моря неопределенных свобод человека, но все же оставляет ему неограниченный выбор действий, а Приказ – полностью это море осушает. В нашей Утопии может быть много Запретов, но не косвенных принуждений (если их можно так назвать), и мало (или совсем нет) Приказов. Насколько я понимаю это сейчас, в настоящем обсуждении я действительно утверждаю, что в Утопии вообще не должно быть положительных принуждений, по крайней мере, для взрослого человека, если только они не ложатся на него как понесенные наказания.
§ 2
С какими же запретами в Утопии столкнемся мы с другом, пара чужестранцев? Конечно, нам не будет позволено убивать, ущемлять и оскорблять кого бы то ни было. С подобным нам, воспитанникам Земли, нетрудно будет примириться. Но до тех пор, пока мы не уточним, как в Утопии относятся к проблеме собственности, нам следует очень осторожно прикасаться к чему-либо, что можно было бы присвоить. Даже если это и не собственность отдельных лиц, то почему бы не собственность государства? И это не единственный вопрос. Вправе ли мы носить наши странные по меркам Утопии костюмы и топтать эту выбранную нами тропинку среди скал? Можем ли мы явиться с нашими неопрятными походными ранцами да в грязных и подбитыми большими гвоздями горных сапогах в этот, по-видимому, исполненный порядка и благоустроенный мир?
Что ж, первый утопист, встреченный нами, в ответ на наш осторожно-приветственный жест не выказал какого-либо удивления – уже что-то. Так что прошли дальше, миновали один поворот – и вот перед нами расстелилась дорога: большая, ухоженная, широкая.
Полагаю, каждому современному человеку Утопия представляется желанной только тогда, когда в ней предусмотрена полная свобода передвижений, ибо для многих таковая – одна из главных привилегий в жизни: нестись всюду, куда влечет душа, смотреть и дивиться. Перспектива столь заманчива для некоторых, что какие бы ни окружали их удобства, вечно эти типы будут недовольны любыми возможными фиксациями их положения в пространстве. Посему у обитателей моей Утопии будет такое благо, и на дальнейшем пути нам не встретятся ни неприступные стены, ни монструозные изгороди. Сойдя с этих гор, мы с другом ни один здешний закон не нарушим.