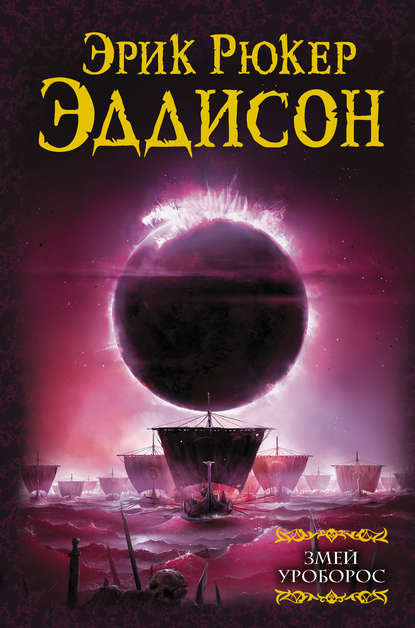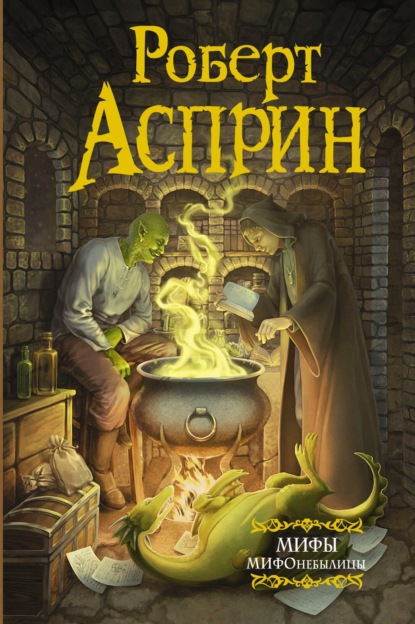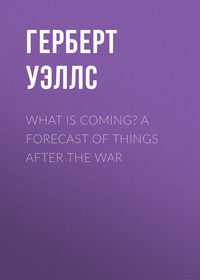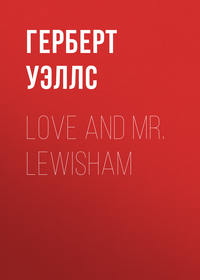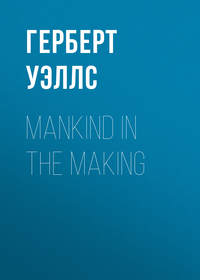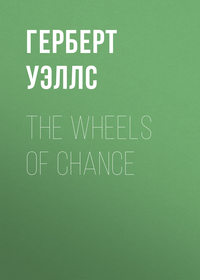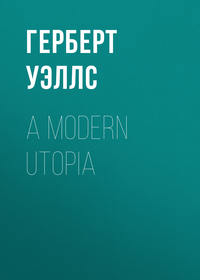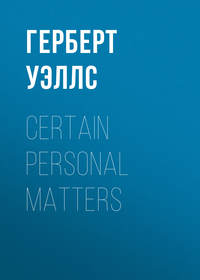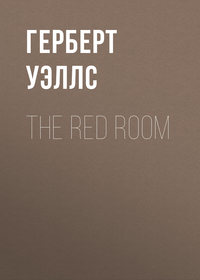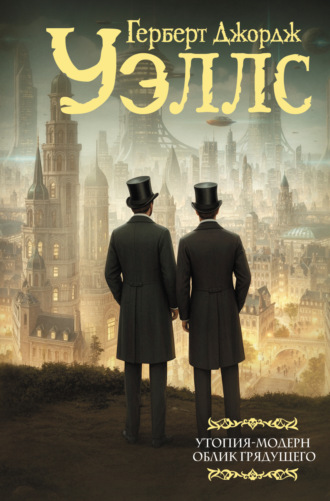
Полная версия
Утопия-модерн. Облик грядущего
И тем не менее, поскольку гражданская свобода сама по себе – компромисс, охраняемый запретами, так и этот особый местный вид свобод должен иметь свои лимиты. Доведенная до крайности, свобода передвижения перестает быть отличимой от права вторгаться куда угодно. Мы могли уже в «Утопии» Мора заметить, как, в согласии с аристотелевским тезисом против коммунизма, коммуна создает невыносимую (как минимум для определенного склада людей) непрерывность социального контакта. Шопенгауэр воспроизвел аргумент Аристотеля в своей привычной ожесточенно-точной манере, уподобив общество ежам, собравшимся в толпу ради тепла, и несчастным, которым тесно с теми, кто рядом, и грустно без тех, кто от них далек. В свою очередь Эмпедокл не находил в жизни никакого смысла, кроме зыбкой игры любви и ненависти, притяжения и отталкивания, ассимиляции и утверждения различий. Пока мы игнорируем различия и индивидуальность – а это, как я считаю, было общим грехом всех до сей поры созданных утопий, – можно делать смелые утверждения, восхвалять коммунизмы или индивидуализмы, предлагать всевозможные жесткие теоретические установления. Но в мире реальном, который, если модернизировать Гераклита и Эмпедокла, есть не что иное, как мир индивидуумов, нет абсолютно правильных и неправильных, да и вообщекачественных вопросов, а есть только количественные приспособления. В нормальном цивилизованном человеке стремление к свободе передвижения столь же сильно, сколь и стремление к некоему уединению, к «своему углу», и мы должны рассмотреть, где проходит линия примирения этих двух потребностей.
Стремление к абсолютному личному уединению, пожалуй, никогда не бывает слишком сильным или постоянным. У подавляющего большинства людей стадный инстинкт в должной мере силен, чтобы сделать любую изоляцию, кроме самой временной, не просто неприятной, но болезненной. У дикаря есть все необходимое для уединения в пределах его черепа; подобно собакам и робким женщинам, он предпочитает дурное обращение дезертирству, и только редкий и сложный современный тип находит утешение и освежение в совершенно уединенных местах и совершенно уединенных занятиях. Тем не менее есть такие люди, которые не могут ни спать спокойно, ни думать, ни достигать полного восприятия красот жизни, пока не бросить их в одиночестве – и хоть бы и ради них было бы даже разумно наложить некоторые лимиты на общее право свободного передвижения.
Но их особая потребность – лишь исключительный аспект почти всеобщего притязания современных людей на неприкосновенность частной жизни не столько ради изоляции, сколько ради близкого общения. Мы хотим отделиться от великой толпы, не столько быть наедине, сколько быть с теми, кто особенно взывает к нам и к кому мы особенно взываем; мы хотим образовать с ними домохозяйства и общества, дать возможность нашим индивидуальностям раскрываться в общении с ними, а также в назначении и обстановке этого общения. Нам нужны сады, ограждения и исключительная свобода для нашего желания и нашего выбора – столь просторные, сколь мы можем получить. И только сообщество уникумов, стремящихся к подобному развитию в каком-то противоположном направлении, сдерживает это ширящееся движение «личного отбора» и требует компромисса в вопросах приватности.
Взглянув назад с нашей утопической горной стороны, по которой течет этот дискурс, на недоразумения старой Земли, мы можем заметить, что потребность и стремление к уединению там исключительно велики в настоящее время, что в прошлом оные были куда меньше, что в будущем они, быть может, снова уменьшатся, и что при утопических условиях, к которым мы придем по широкой дороге, они могут дойти наконец до вполне приемлемых размеров. Но это должно быть достигнуто не путем подавления индивидуальностей какой-то общей моделью, но расширением общественного милосердия и общим улучшением качества ума и манер. Не ассимиляцией то есть, апониманием достигается наша Утопия-модерн. Идеалом человечеству в прошлом служило сообщество с едиными убеждениями, едиными обычаями и церемониями, с общими манерами и общими формулами. Все одинаково одеваются, одинаково любят и еще более одинаково умирают – и у каждого свое строго отведенное местечко в некой иерархии. Поступки и чувства – малость; отступления от строго оговоренного Уклада – гнусность. Быть «странно» одетым, вести себя «странно», претворять всякое отклонение от установленного обычая равносильно оскорблению и должно навлечь на себя враждебность неискушенных народных масс. Но ведь почти все по-настоящему оригинальные и живые умы всегда стояли против условностей, за новшества.
Особенно ясно это выражается в наше время. Практическикатастрофическое развитие машиностроения, открытие новых материалов и появление новых социальных возможностей дали огромный и беспрецедентный простор духу новаторства. Старый уклад был разрушен (или сейчас разрушается) по всей Земле, и повсюду общества расплываются, повсюду люди плавают среди обломков своих затонувших устоев – и до сих пор совершенно не подозревают, что произошло. Старые «местечковые» нормы поведения, старые общепринятые развлечения и формы досуга, устоявшиеся ритуалы поведения касательно важных повседневных мелочей и новшеств, требующих обсуждения – разбиты, разбросаны и смешаны в несогласии друг с другом. Никакая всемирная культура терпимости, никакое учтивое признание всех различий, никакое всеобщее понимание еще не заменили их. Поэтому публичность в современном мире стала несимпатичной для всех. Классы невыносимы для классов, сообщества – для сообществ, контакт провоцирует агрессию, более тонко устроенные люди угнетены всеобщим вниманием, лишенным сочувствия и зачастую откровенно враждебным. Жить без какого-либо выхода из общей массы невозможно – в точном соответствии с индивидуальным отличием.
Конечно, в Утопии все будет по-другому. Утопия будет пропитана снисхождением. Для нас, одетых в испачканный твид и не имеющих никаких денег, кроме британских банкнот, потерявших ценность многие световые года назад, это должно быть обнадеживающим стартом – и хорошо, если нравы Утопии будут равномерно, а не локально терпимы. То, что понятно на Земле немногим, здесь будет более-менее понятно всем. Низость поведения и отсутствие манер не будут отличительной чертой какой-либо части общества. Следовательно, более «грубых» причин для уединения здесь не будет. Отпадет потребность многих землян в защите и затворничестве – предполагается, что в утопическом культурном государстве людям будет намного легче есть, отдыхать, развлекаться и даже работать на публике.
Наша нынешняя потребность в уединении во многих вещах знаменует фазу перехода от легкости на публике в прошлом – из-за социальной однородности, к легкости на публике в будущем – благодаря интеллекту и хорошему воспитанию, и в Утопии этот переход будет завершен. Так будем же помнить об этом, рассматривая в дальнейшем многие другие вопросы.
Несомненно, однако, что в Утопии все-таки сохранится значительная претензия на свои владения. Комната, квартира, дом – какое бы то ни было частное имение – принадлежит тому, кто проживает там. Также было бы излишне сурово запрещать разбивать около дома сад или устраивать для себя внутридомовой перистилиум в помпейском стиле[11]. Да и запретить тому, кто владеет домом, огородить близ своей территории участок для каких-либо нужд – тоже не самая простая задача. Тем не менее, опасаюсь, что бедный горожанин (если в Утопии имеет место быть деление на бедных и богатых) будет обречен блуждать в лабиринте чьих-то садов, обнесенных высокими заборами, без надежды на скорую передышку в заповедной открытой местности. Ныне такова судьба бедных лондонцев. В рассматриваемой Утопии, конечно, есть прекрасные дороги, подземные пути сообщения, транспорт и прочие удобства для населения. Города не должны давить застройкой – они должны соседствовать с природой, а не сживать ее проявления со свету.
Что касается вопроса о земельной собственности, то, будучи чисто количественным, он не потерпит ленивой отмашки каким-то одним принципиальным утверждением. Я полагаю, что наши утописты ответят на него с помощью подробных правил, которые, весьма вероятно, будут варьироваться в зависимости от местных условий. Неприкосновенность частной жизни за пределами дома может быть сделана привилегией, и за нее будут платить пропорционально занимаемой площади. Налог на такие лицензии на неприкосновенность частной жизни может увеличиваться пропорционально квадратному метражу затрагиваемой площади. Установить квоту частной ограды на каждую квадратную милю города и пригорода – почему бы и нет? Можно провести различие между «абсолютно частным» садом и садом, частным и закрытым только на день или пару дней в неделю, а в другое время открытым для посещений. Кто в по-настоящему цивилизованном сообществе поскупится на такую меру вторжения? Стены могут облагаться налогом по высоте и длине, чтобы ограждение действительных природных красот – порогов, каскадов, ущелий, смотровых высот – сделалось невозможным. Таким образом, разумный компромисс между жизненно важными и противоречивыми требованиями свободы передвижения и свободы уединения может быть достигнут.
И пока мы рассуждаем таким образом, мы все ближе и ближе подходим к дороге, которая идет вверх, через Готардский гребень и вниз по Валь Тремоле к Италии.
Что это была бы за дорога?
§ 3
Свобода передвижения в Утопии-модерн должна подразумевать нечто большее, чем право неограниченных пешеходных скитаний. Ибо само предположение об одном на весь мир государстве, говорящем на одномобщем языке, несет в себе идею о столь изобильной когорте путешествовавших и путешествующих, о столь иной культуре странствий – нам и не снилось.
Доказано и на Земле, что как только улучшаются в массе экономические и политические условия и люди получают возможность путешествовать, все тут же загораются необычайной страстью к дальним странам. В Англии, например, вряд ли найдется человек, располагающий годовым доходом чуть выше пятисот-шестисот фунтов, который не выезжал бы ежегодно за границу. В Утопии-модерн путешествие войдет в основу жизни. Побывать в другом климате, не успевшем приесться, увидеть новые земли, встретить новых людей и новую архитектуру, попробовать необыкновенную пищу, посмотреть на странные, не виданные прежде деревья и цветы, на флору и фауну, взойти на высокие горы и любоваться холодными, укрытыми снегом равнинами, полярным сиянием либо же ярким зноем тропиков, форсировать широкие реки и бескрайние пустыни, посетить таинственный полумрак девственных лесов и переплыть пару-тройку морей – завидный удел в жизни даже для самых простых, невзыскательных натур. Вот этой-то радостной и приятной особенностью – свободой путешествий – Утопия-модерн зримо отличается от предшествовавших ей Утопий.
Приняв во внимание то, чего мы добились в этом отношении на Земле, мы можем прийти к заключению, что путешествие по всему государству Утопии будет в той же мере доступно и безопасно для всех, как и путешествие по всякому благоустроенному государству на Земле – по Франции или Англии, например. Везде и всегда будет царить мир. Везде будут обустроены удобные постоялые места в лучших швейцарских традициях. Клубы туристов и гостиничные ассоциации, монополизировавшие приток средств во Францию и Швейцарию, будут иметь свои прекрасные и вполовину не такие алчные утопические эквиваленты, так что весь мир будет привычен к приездам и отъездам пилигримов. Все страны будут одинаково безопасны и доступны всем решительно – точно так же как деревеньки Люцерн и Церматт в Швейцарии ныне доступны всем туристам среднего класса и среднего достатка.
Поговорим о разнообразных способах передвижения. Вряд ли в Утопии будут в ходу те земные локомотивы – в них уже и в нашем мире потихоньку разочаровываются. На черный смог, которым коптят и отравляют воздух на Земле, не станут закрывать глаза в моей Утопии. Вероятнее всего, пути сообщения уберут под землю – сделают разветвленную сеть, паутиной опутывающую всю планету, с тоннелями, залегающими в горах и даже по дну морскому. Это могут быть классические железные дороги или монорельсы, или что-то еще – мы не инженеры, чтобы судить о таких устройствах, – но с их помощью утопист будет путешествовать по Земле от одной точки к другой со скоростью двести или триста миль (или больше!) в час. Большие расстояния – не преграда более.
Воображение рисует мне длинные поезда-коридоры с плавно и бесшумно катящимися по рельсам вагонами. Проложенная по туннелям телеграфная сеть позволит принимать и тут же печатать все послания с пылу с жару с телеграфных линий; вагоны будут располагать всем, чтобы выспаться, провести уход за телом, поесть, почитать. И главное – никаких тебе первых, вторых и третьих классов; в цивилизованной Утопиине должны существовать социальные различия. За проезд будет взиматься самый низкий тариф, доступный решительно всем, за исключением разве только людей, у которых за душой ну совсем ничего нет – и я не смею даже предположить, что в Утопии может к такому привести.
Таким способом передвижения утописты будут пользоваться для дальних расстояний. Каждая железная дорога будет конечным узлом, от которого по несчетным, разбегающимся во все стороны путям будут ходить электросоставы. Я представляю их себе в виде тонкой сети, густой там, где много населения, и прореженной в областях пустынных. Будут устроены также прекрасные шоссе, вроде того, к которому мы теперь подходим. По этим шоссе будут ездить частные экипажи, авто и велосипеды. Сомневаюсь, что мы встретим лошадей на этой чистой, как паркет, дороге, и мне кажется вообще сомнительным, чтобы в Утопии много ездят верхом. Более правдоподобным видится то предположение, что лошадиная тяга не будет в Утопии в употреблении. Однако, сдается мне, лошади для верховой езды никуда не денутся. Животные вроде мулов, верблюдов и слонов из тягловых станут своего рода декоративными, а может, и вовсе окончательно свободными в своих природных зонах: высокогорьях, пустынях, саваннах. Всякую тяжесть будут поручать механической тяге. Для велосипедистов проложат дорожки рядом с шоссейными дорогами, затем для них будут устроены дорожки около леса или нивы, так как, несомненно, приятнее ехать около леса, чем вдоль шоссе. Для пешеходов также будут устроены прекрасные дорожки в самых разнообразных местностях: скажем, в сосновых борах, у водопадов и горных источников. Во многих местах будут разбиты великолепные цветники, и везде, по всей Утопии, по дорогам и тропинкам, в лесах и роскошных садах, будет гулять великое множество воодушевленных природопоклонников.
Население в Утопии, надо думать, будет скорее походить на кочевое. Не странствующее, а именно кочевое – это понятие будет отличаться от того, что понимают под ним на Земле. В старые времена Утопии представлялись оседлыми государствами, но в наше время даже самые неприхотливые и необеспеченные индивидуумы одержимы стремлением путешествовать. Для нас ровно ничего не значит отправиться за восемьдесят или девяносто миль от нашего места жительства по какому-нибудь делу или ради партии в гольф совершить многочасовой переезд на поезде, который мчится со скоростью пятьдесят миль в час. Наш быт настолько не похож на оседлый, что предки, уверен, всячески дивились бы нам. Лишь неуклюжесть коммуникаций ограничивает нас сейчас, и каждое облегчение путей передвижения расширяет не только наш потенциал, но и наш привычный диапазон: мы меняем свое жилище с возрастающей частотой и легкостью. Даже сэру Томасу Мору мы должны показаться породой кочевников, что уж там говорить о патрициях Рима. Постоянство места прежде было необходимостью, а не выбором; это была просто фаза в развитии цивилизации, уловка укоренения, которой человек научился на время у своих новых союзников – кукурузы, виноградной лозы и очага. Но необузданный дух юности извечно обращен к блужданиям и морю. Душа человека еще ни в одной стране не была добровольно приписана к земле. Даже господин Беллок[12], который проповедует счастье крестьянина-собственника, настолько мудрее своих убеждений, что плавает по морям на яхте или из Бельгии предпринимает караванный вояж в Рим. Мы снова завоевываем нашу свободу, свобода обновлена и расширена, и теперь нет ни необходимости, ни выгоды в постоянной пожизненной привязанности к тому или иному месту. Люди могут, конечно же, осесть в нашей Утопии-модерн для того, чтобы предаться любви и создать семью, но прежде все они наиболее полно увидят этот мир.
И с этим ослаблением оков местности неизбежно произойдут всевозможные изменения распределения факторов жизни. На нашей бедной нерациональной Земле люди живут там же, где выращивают технические культуры, копают руду, возводят силовые установки. В Утопии будут, как я полагаю, специально выделенные и строго ограниченные районы, где никогда не появится ни одно домашнее хозяйство – скажем, горно-металлургические, черные от дыма печей, изрытые и опустошенные рудниками, исполненные того странного негостеприимного величия, свойственного порожденным промышленностью пустошам. Люди будут прибывать туда, работать и возвращаться назад к цивилизации, моясь и переоблачаясь в быстро мчащем поезде.
Компенсируя наличие этих условно «безжизненных» областей, в Утопии будут должным образом обустроены наделы, наиболее подходящие для заботы о детях. На их территории не будет облагаться налогом наличие ребенка – в отличие от других, менее благотворных мест. Нижние перевалы и предгорья тех же самых Альп, к примеру, в моей Утопии будут застроены домами, обслуживающими обширные пахотные земли Верхней Италии.
Итак, когда мы спустимся к нашему маленькому озеру на лоне Лучендро, и еще до того, как выйдем на дорогу, мы увидим первые разбросанные хижины и дома, в которых живут мои утописты-переселенцы – особо подчеркну, что этолетние дома. С наступлением лета, когда снега в высоких Альпах отступят, волна домашних хозяйств и школ, учителей, врачей и всех подобных сопутствующих услуг потечет вверх по горным массивам – и вновь отхлынет, когда вернутся сентябрьские снега. Для современного идеала жизни важно, чтобы период роста и образования длился как можно дольше, а половое созревание соответственно замедлилось, и мудрым регулированием государственные деятели Утопии будут постоянно корректировать законы и налогообложение, чтобы уменьшить долю детей, воспитанных в жарких и слишком стимулирующих организм условиях. Эти высокие горы будут каждое лето полны молодняка; и еще выше, в сторону мест, где снег почти не сходит до июля, будут простираться эти дворы, а внизу вся длинная долина Урсерен станет просторным духу и телу летним городком.
На информационном щите изображена одна из наиболее городских магистралей, одна из тех, по которым проходят легкие железные дороги. Я представляю ее такой, какой ее можно было бы увидеть ночью: полоса шириной, может быть, в сотню ярдов, с тропинками по обеим сторонам, затененными высокими деревьями и мягко освещенными оранжевыми огнями. По центру пробегают поезда, а иногда и ночные трамваи, скользящие мимо практически без звука. Велосипедисты с подсветкой будут порхать по трассе, как светлячки, время от времени какой-нибудь скромно жужжащий экипаж промчится мимо, следуя в Роланд, Рейнланд, Швейцарию, Италию – туда или обратно. И вдалеке, по обеим сторонам от трассы, горят огни маленьких загородных домов на горных склонах.
Думаю, уже ночь, и именно такой вид откроется нам в первую очередь.
Мы должны выйти из нашей горной долины на дорогу-ответвление, идущую каменистой пустошью перевала Сан-Готард, спуститься по этому девятимильному извилистому маршруту и так оказаться в сумерках среди теснящихся домов и нагорных неогороженных садов Реальпа, Хоспенталя и Андерматта. Меж Реальпом и Андерматтом, вниз по ущелью Шёлленен, должна проходить большая дорога. К тому времени, когда мы доберемся до нее, суть приключения, в которое мы с ботаником влипли, немного прояснится. Увидев, как знакомые скопления шале и гостиниц сменяются огромной россыпью домов, перемигивающихся множеством окон, мы наконец осознаем, что стали жертвами странного пространственно-временного переноса, и туда, где по нашим знаниям – Хоспенталь, мы направим стопы со смесью страха и интереса. Выйдя с ответвления на большую, несущую дорогу, более всего напоминающую городской проспект, мы должны решить для себя – идти ли по долине в сторону перевала Фурка или вниз по Андерматту через ущелье, ведущее к Гешенену…
В сумерках мимо нас проходили люди – великое множество; мы вполне различали вид их костюмов – наряды изящные, но абсолютнонеземные.
– Доброй ночи! – привечали нас здесь ясными, благозвучными голосами, скользя по нам мимолетными взглядами.
И мы, искренне недоумевая, отвечали этим людям тем же – ибо условностями, в начале сей книги оговоренными, нам здесь дана свобода понимания языка.
§ 4
Если бы это был полноценный роман, то я сейчас уже повествовал бы о том, эк удружила нам судьба – и как мы, найдя кучу золотых монет Утопии, отправились в гостиницу, куда в скором времени благополучно добрались бы и где всем бы громко восхищались. Конечно, мы были бы притом скромны и застенчивы. Наблюдательность наша также была бы чрезвычайна. Но что касается еды, которой нас угощали, и убранства комнат, и всего в таком духе – думаю, будет уместнее о том поведать после. Очевидно, мы попали в такой мир, где давно привыкли к иностранцам; наши горные костюмы, потертые и не по здешней моде сшитые, все-таки не настолько странны, чтобы жители Утопии поразились им.
С нами обращались как нельзя лучше, если принять во внимание, какими неинтересными и неблестящими собеседниками мы с ботаником выступали. Мы всеми силами наблюдали, как держали себя обитатели Утопии, отслеживали их обычаи и нравы – и кое-как выдержали это испытание общением с аборигенами.
После обеда – не то, чтобы невкусного, но странного, так как мясных блюд в нем не было, – мы вышли подышать воздухом и посоветоваться друг с другом, и вот тут-то и заметили те странные созвездия, о которых я уже упоминал. Тогда-то вконец уразумели мы, что наша фантазия стала явью. Решительно отринув мысль о том, что нами повторена судьба Рипа ван Винкля, мы припомнили незнакомые места, которые заметили, спускаясь в долину, и пришли к окончательному убеждению, что перенеслись – о да! – в Утопию.
И вот мы идем по большой, усаженной деревьями улице, вглядываясь в лица прохожих, которые мелькают мимо нас в легком тумане, как таинственные тени. Мы почти ничего не говорим друг другу. Сворачиваем с большой дороги на узкую тропинку и подходим к мосту, перекинутому через бешеный Ройсс, который клокочет и мчится вниз, в ущелье к Чертову мосту. Вдали над горным хребтом бледное сияние указывает на восходящую луну.
Парочка влюбленных проходит мимо, и мы слышим их тихий шепот и провожаем долгим взглядом. Эта Утопия, наверное, сохранила самую главную из всех свобод – свободу любить. И вдруг над нами, как с высоты Альп, раздается чудный гармоничный звон. Колокол звонит ровно двадцать два раза.
– Похоже, так здесь оповещают о десяти часах, – замечаю я.
Но мой спутник перегнулся через перила моста и ничего не отвечает. Он не отрываясь глядит в горную глубину. Вот из-за туч появляется узенький серп месяца, и внезапно вся река оживает и блестит серебром.
Он нарушает молчание, вновь поражая меня однонаправленностью своих мыслей.
– Когда мы были юны, то походили на этих двух влюбленных, – говорит он, указывая еле заметным кивком на прошедших мимо нас молодых людей. – Она была моя первая любовь, и я остался ей верен на всю жизнь. Я никогда никого не любил, кроме нее.
Вот поистине земное чувство. Честью уверяю, что никогда мне не приходило в голову, что, вступив впервые в Утопию, полную чудес, стоя в изумлении на тверди этой планеты и любуясь чудным горным видом, буду постоянно слышать от своего спутника нечто подобное.
Ясно, что все его внимание занято собственной особой, его важным «я». Всегда так случается, к великой моей досаде, что лучшие и самые прекрасные впечатления нарушаются чем-то мелким и приземленным. Помню, когда впервые я увидал Маттерхорн, эту царицу альпийских вершин, то мое чудное, торжественное настроение было загублено рассуждениями одного типа о, шутка ли,сардинах: видите ли, не ест он их, ведь организм его откликается на сардины тем-то и тем-то… А когда я впервые посетил помраченные улицы Помпей, о которых мечтал с каким-то болезненным нетерпением, впечатление проредил чей-то спор о тарифах на извоз, установленных в европейских столицах. И вот теперь этот человек в первую ночь, которую я провожу в Утопии, нарушает очарование рассказом о своих амурных терзаниях, превосходно укладывающихся в фабулу бульварного романа, где Обычаи Жестоки, а Рок Неотвратим. Я все время приглядываюсь к темным фигурам, двигающимся вдали по дороге, и едва слушаю его рассказ.