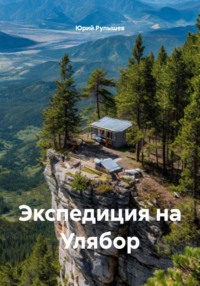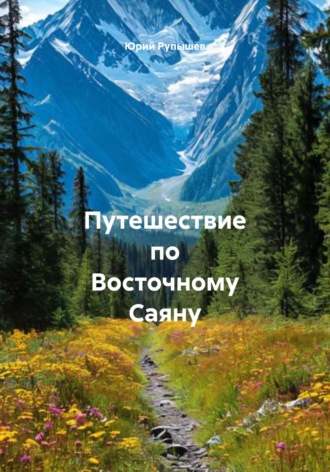
Полная версия
Путешествие по Восточному Саяну
– Настоящий праздник! – засмеялся Шурик. – Сейчас растопим печь, вскипятим снега и устроим пир!
Вскоре в избушке запахло дымом и теплом. Мы варили нашу драгоценную вермишель в котелке, сдобрив ее щепоткой соли и кусочком сала, растянутого на два дня. Аромат простой еды в промерзшей до скрипа хибаре казался верхом блаженства. Мы ели молча, грея у печки закоченевшие руки и глядя в заиндевевшее окошко, за которым синела февральская ночь.
– Эх, – протянул Саш, доедая свою порцию и заглядывая в пустую кастрюльку. – Вот к такому пиршеству… куропаточки бы сейчас. Жареной, прямо с мороза, с дымком. Представляешь?
Я представил. И от этого представления в нашей холодной избушке стало еще уютнее. Мы были молоды, голодны и абсолютно счастливы где-то в заснеженной глуши, в долине, где горячие источники боролись с февральским морозом, а наше маленькое открытие согревало лучше любой печки.
На следующий день у нас была запланирована днёвка. Мы шли строго по графику, не отставая и не забегая вперёд, а потому могли позволить себе эту маленькую роскошь – полный отдых. А где ещё отдыхать, как не на источниках? Молодой организм, измотанный переходами по зимней тайге, требовал не просто передышки, но и подлечивания. И целебные воды были к нашим услугам.
День прошёл в блаженном ничегонеделании, расписанный, как ритуал: распитие минеральной воды, пахнущей тухлыми яйцами, но такой сладкой после раскалённого чая у костра, и купание в горячем радоне. Лёжа в сложенной из бревен купели, я раскинул руки по краям, смотрел сквозь приоткрытую дверь на свинцовое небо и мысленно славил местную радиацию, подарившую нам этот природный джакузи. Тишина вокруг была абсолютной, гулкой, пропитанной морозным воздухом и паром от воды. Покой, настолько глубокий, что трудно было представить: мы находимся на популярном, известном ещё с советских времён месте. А вокруг – ни души. Только мы, тайга да заснеженные сопки.
Эта идиллия была внезапно и грубо разрушена нарастающим, рокочущим звуком. Сначала он был едва слышен, словно комар где-то за облаками, но через секунды превратился в оглушительный гул, заполнивший собой всё пространство. Вертолёт.
«Военные», – безапелляционно, без тени сомнения заявил Саша, не отрывая взгляда от неба, откуда из-за горной гряды выползла «вертушка» – громадная, стрекозиная, серая машина с вращающимся винтом.
Она не стала садиться, резко подскочив над поляной, будто колеблясь, стоит ли тревожить этот забытый богом уголок. Лишь чуть зависла у земли, подняв вихрь снежной пыли, которая закружилась в бешеном танце. Едва открылась боковая дверь, как мы услышали его – заразительный, хмельной, переливчатый женский смех, который перекрыл даже рёв двигателей.
Двое дородных полковников в тёплых бушлатах, ловкие несмотря на свою грузность, спрыгнули в сугробы и принялись выгружать поклажу. Сначала на землю ступили «весёлые тётушки» – две дамы в лёгких, явно городских пальтишках, которые смеясь и поскальзываясь, тут же попали в крепкие руки военных. Затем полетели ящики – массивные, с надписями «Спирт» и «Консервы».
Меня, признаться, охватила та самая, знакомая каждому туристу, белая зависть. Мы, преодолевая километры по глубокому снегу, с рюкзаками за спиной, обливаясь потом и стирая ноги в кровь. А они – эти «инопланетяне» с другой планеты под названием «Большая земля» – добрались до источников за пару часов, с комфортом и смехом. Это был разрыв между двумя мирами, и мы в этот момент остро ощущали себя жителями более медленного и трудного из них.
Вертолётчики, закончив выгрузку, козырнули нам от двери и ушли «по-афгански» – резко набрав высоту и помахав на прощание крыльями. Гул стих, и вновь воцарилась тишина, но теперь уже не прежняя, а нарушенная, наполненная новыми звуками и запахами.
К нам подошли военные дяди. От них пахло морозом, махоркой и вкусным, согревающим чесночным перегаром.
– Здорово, орлы! – хрипло сказал тот, что постарше, с густыми седыми усами. – Откуда сами-то? Неужто пешком?
– Из города, – ответил Саша, – пешком, да. У нас маршрут по хребту.
Полковник с нескрываемым удивлением окинул взглядом наши потрёпанные штормовки и лыжи, прислонённые к зимовью.
– Пешком… По этой тайге… Ну вы даёте! Респект и уважуха!
Тем временем их подруги, расфуфыренные и слегка поддатые, подошли ближе. Одна из них, в ярком платочке, огляделась с театральным недоумением.
– Мальчики, а где тут у вас… цивилизация? Где можно устроиться на отдых? Не в этой же избушке?
Мы объяснили, что кроме этой «избушки» – зимовья для туристов – и пары бань, здесь ничего нет. Цивилизация кончается там, за перевалом. Дамы немного опешили, но боевой дух не упал.
Мы помогли донести тяжёлые ящики до большого зимовья. Полковники были нам благодарны.
– Молодцы, пацаны! На, укрепляйся! – старший вручил нам банку сгущёнки и тушёнки. Для нашего скромного походного рациона это был настоящий пир! – Давайте с нами бухнём, за знакомство! У нас всего, – он многозначительно подмигнул, – хватит!
Мы вежливо, но твёрдо отказались.
– Мы же туристы-спортсмены, – с какой-то гордостью сказал я, – куда уж нам! Нам рано завтра вставать.
Военные не стали настаивать, лишь покачали головами с доброй усмешкой. Мы вернулись к своему костру, оставив новоприбывших осваиваться. Из зимовья доносились смех, звон посуды и песни. А мы сидели у огня, варили свою скромную кашу и смотрели, как в маленьком окошке избушки пляшут тени наших нежданных, шумных, но таких земных соседей. Днёвка оказалась не такой уж и спокойной, но зато куда более интересной.
Наступил следующий день. Солнце светило немилосердно, превращая снежную гладь в ослепительное зеркало. Каждый взгляд вверх, на цель, вызывал резь в глазах и темные пятна в поле зрения. Жажда стала нашим личным демоном, скребущимся в пересохшем горле. Мы пили талый снег, но он не приносил облегчения, лишь ледяной комок опускался в желудок, не в силах погасить внутренний пожар.
Но по мере того, как мы, выбиваясь из сил, приближались к заветному гребню, что-то неуловимо менялось в воздухе. Усталость никуда не делась, но ее стала теснить упрямая надежда. Это был Перевал Долгожданный. Само имя звучало как обетование. Через него из затерянной долины Шумака должен был открыться путь к истокам Билюты. В отчетах его называли несложным, но для нашей компании он был загадкой. Я дважды безуспешно искал его среди этого нагромождения скал и осыпей, и мои спутники делили со мной это странное чувство – будто перевал, словно мираж, умел растворяться в ясный день.
Саша, наш старший, остановился, снял рюкзак и, опершись на лыжные палки, изучал склон. Лицо его было серьезным, глаза прищурены от солнца.
– Ну что, следопыты? – его голос был хриплым от усталости. – Решили, что перелезем вот здесь.
Он ткнул пальцем в снег, и только тогда мы разглядели цепочку четких, глубоких отпечатков. Следы росомахи, уверенные и целенаправленные, уходили круто вверх по, вроде бы, самой логичной ложбинке, обещая самый прямой путь.
– Зверь знает дорогу лучше карт, – буркнул Миша, мой напарник, человек немногословный, но надежный, как скала.
Как мы пёрли в эту крутую гору – это отдельная песня, полная мата и стоического упрямства! Солнечный наст, казавшийся твердым, проваливался под ногами с глухим, пугающим «ууххом». Каждый шаг давался с боем. Снег оседал, бубнил, ухал, как живой. В животе от этой тряски и напряжения стояла муть, а в голове крутилась одна и та же мысль: «Зачем я сюда полез?» Лишь следы зверя, эти темные точки, упрямо уходящие ввысь, вселяли какую-то иррациональную надежду. Если эта тварь прошла здесь, значит, и мы сможем.
Уклон становился все круче. Дышать стало тяжелее. Я уже не смотрел наверх, только под ноги, считая шаги: десять – короткая остановка, выдох – и снова десять. И вдруг я всем телом, каждой клеткой, ощутил неладное. Не привычный жесткий просад под ботинком, а странное, зыбкое движение всей массы подо мной. Снег поплыл. Медленно, почти лениво, но поплыл. Мы замерли в один миг, будто по команде.
Тишина, нарушаемая только свистом ветра и собственным пульсом в ушах, длилась, вероятно, секунду. Но она показалась вечностью.
– Лавина! – это был не крик, а сдавленный, сорвавшийся шепот. – Налево, к скале! – прорезал тишину уже голос Саши, резкий и властный.
Он метнулся в сторону, к островку темных камней, торчавших из снега в тридцати метрах. Движение его было стремительным и точным. Следом, не раздумывая, рванул Миша, его мощная фигура резко заработала против сыпучей массы.
А я оцепенел. Ноги стали ватными, в голове пронеслась пустота, а потом накатила волна животного, парализующего страха. Он сковал меня прочнее любых оков. Я видел спину Саши, уже достигшего безопасных камней. Видел, как Миша, тяжело дыша, выбирается на середину подъема к нему. А я все стоял на этом предательском пласту, слушая, как оглушительно, с молоточными ударами, бьется в висках сердце. Снег под ногами продолжал свое тихое, неумолимое движение.
Саша обернулся, чтобы проверить нас. Его взгляд скользнул по Мише и нашел меня. Замершего. В его глазах я увидел не укор, а мгновенную, холодную оценку ситуации. Он все понял. Без единого слова он развернулся, сделал шаг обратно, на опасный склон, и резко, почти броском, протянул в мою сторону древко своей лыжной палки.
– Держись! – крикнул он, и в его голосе не было паники, только стальная решимость.
Этот жест, эта протянутая палка, словно брошенный канат, разбили оцепенение. Я рванулся навстречу, ухватился за нее мертвой хваткой. И мы поползли. Не бежали, а именно ползли, проваливаясь по пояс, но уже вместе. Саша тянул меня к скале, выбирая каждый сантиметр пути.
Тут к нам подтянулся Миша. Он не стал ждать, а спустился нам навстречу, схватил меня под локоть с другой стороны. Вдвоем они буквально втащили меня на камни, а затем вернулись за нашими рюкзаками, которые я в страхе бросил. Мы с Сашей, уже стоя на твердой земле, помогали стащить наш обоз.
Внизу, по тому месту, где я стоял секунду назад, уже катилась, набирая массу и скорость, небольшая, но вполне способная захоронить человека снежная лавина. Комья снега, подпрыгивая и разбиваясь о склон, летели вниз с сухим, шелестящим звуком. Гора дышала – глубоко и гулко, издавая тот самый «ух», что мы слышали все это время. Только теперь мы поняли его истинный смысл.
Мы стояли на камнях, опираясь на колени, и дышали, как выброшенные на берег рыбы. Никто не говорил. Слова были лишними. Пронесло… От этой мысли по телу разливалась слабость, смешанная с диким облегчением.
Саша выпрямился первым, посмотрел на нас, потом на утихающий внизу снежный обвал.
– Долгожданный, мать его… – только и выдохнул он. – Теперь я знаю, почему его так сложно найти. Он сам решает, кого пропустить.
На перевал мы выбрались, когда солнце, изрядно потрёпанное зубчатым гребнем Саян, уже почти скатилось за горизонт. День сдавал позиции, и его место немедленно занимал крепчающий, колючий как иглы мороз. Саянский ветер, этот вечный кузнец непогоды, рвался в клочья всё на своём пути, выдувая из нас последние капли тепла. Устроившись на узкой каменной гряде, похожей на спину окаменевшего дракона, мы молча смотрели вниз. Мысли о спуске витали в воздухе, тяжёлые и нерешительные.
Вообще, думать – занятие полезное, но только заранее. А когда сидишь в позе пингвина в сгущающихся сизых сумерках на краю скалы, не ведая, что внизу, – это уже не размышления, а самое настоящее отчаяние, холодное и тошнотворное.
Перед нами зияла пропасть, а в неё уходил ледяной желоб, словно выточенный гигантским резцом. Он был похож на ту самую бобслейную трассу, которую я видел по телевизору: идеально гладкий, без единого шероховатого пятна, он резко уходил вниз и круто, с вызовом, заворачивал влево, скрывая то, что ждало за поворотом.
– Ну что, стратеги? – хрипло спросил Миха, втягивая голову в плечи от порыва ветра. – Варианты? Возвращаться?
– Ты с ума сошёл? – я мотнул головой в сторону лавинного склона, который мы с таким трудом миновали час назад. Он теперь казался зловеще безжизненным. – Тот склон ночью? Это самоубийство.
– Ночевать здесь – тоже не комильфо, – философски заметил Саша, потирая замёрзшие пальцы. – К утру будем как ледышки. Ветер насквозь продувает.
Мы замолчали. Холод уже не просто щипал щёки, а начал по-настоящему сковывать тела, проникая сквозь куртки и свитера. Решение, отчаянное и единственное, созрело само собой.
– Прыгать. В самое жерло, – выдохнул я, указывая подбородком на ледяную трассу.
Эх, знать бы нам тогда, налегке штурмовавшим перевал, что на спуске пригодятся кошки и ледоруб! Но мы были беспечны, как дети. Пришлось импровизировать. Мы вывернули карманы, собрали все свои «сокровища»: пара запасных шнурков, две треккинговые палки, бинт из аптечки. Связали из этого хозяйства подобие верёвки метров десять длиной – жалкое, но единственное подспорье. Миха ехидно окрестил её «а-ля сопли друга».
Путем детской считалки – «на златом крыльце сидели…» – выбрали первого смельчака. Им стал Саша. Он бледнел с каждым нашим «выбывшим» словом, но кивнул.
– Только без геройств, ладно? – сказал я, обматывая ему вокруг пояса наш «канат». – Сползай медленно, как улитка.
Саша нервно улыбнулся, развернулся лицом к склону и попытался сползать аккуратно, цепляясь руками за лёд. Но лёд в смертоносном тандеме с его капроновыми штанами оказался сильнее. Мгновение – и он исчез из вида, словно его проглотила гора. Наша самодельная верёвка натянулась, зазвенела, а затем бесцеремонно обвисла, оставшись без груза.
Мы замерли. В ушах стоял оглушительный вой ветра, но он не мог заглушить стук собственного сердца. Я впился взглядом в поворот, за которым скрылся Саша. Мне показалось, что ожидание длится вечность. Я окончательно продрог, но это был не холод от мороза, а ледяной ужас от неизвестности.
И тут – чудо. Снизу, сквозь шум, донёсся крик, который ветер разорвал на части, но мы услышали самое главное:
–Жи-и-и-вой! Всё норм!
Это был Саша! Облегчение ударило в голову, как стопка крепкого спиртного. Я обернулся к бледному как полотно Михе.
–Ну что, братан? Если помирать, так с музыкой! – крикнул я, уже не чувствуя страха, а лишь азарт и дикое желание выбраться из этой ледяной ловушки.
Я подтолкнул его вперёд, и мы, связанные той же жалкой верёвкой, ринулись в ледяное жерло. Мой рюкзак отчаянно бил меня по спине, лёд свистел в ушах. За поворотом открылась фантасмагорическая картина: цирк истока Билюты оказался огромным амфитеатром, ослепительно белым в предвечерних сумерках, а спуск – нереально, сюрреалистически крутым. Но внизу, уже пониже, стоял, широко расставив ноги, и махал руками невредимый Саша.
– Отпускай! – закричал он.
Я разжал онемевшие пальцы, отпустил конец верёвки и с каким-то животным криком восторга и освобождения полетел вниз по склону. Меня несло по льду весело и задорно, будто на гигантской детской горке. Ближе к Саше лёд сменился рыхлым, цепким снегом, что позволило врезаться в сугроб и остановиться без серьёзных последствий.
Мы валялись в снегу, хрипло смеясь и хватая ртом холодный воздух. Окажись на его месте всё тот же голый лёд, эту историю вам бы некому было рассказать! А так – отделались парой ушибов, порванными штанами и памятью, которую не стереть до конца жизни. Только и всего. Но этого «всего» хватило, чтобы понять цену каждого следующего утра.
Спасённые, мы обнялись, всплакнули от счастья и радостно побежали вниз, к лесу, где нас ждал костёр, тушёнка с вермишелью и долгий, весёлый разговор о чудесном переходе через перевал. Тот самый перевал, который позже мы опознали как «Лавинный» 1Б. Название-то какое точное и ёмкое!
Глава 6
Радиалка к перевалу Ветренный (1Б)
План нашего путешествия был подобен живой, дышащей карте – он мог меняться под напором обстоятельств, погоды и нашего внезапного желания увидеть больше. Перевал Ветренный изначально значился в нем ключевой точкой, главными воротами на пути к Аршану. Но судьба распорядилась иначе, и мы избрали другой маршрут, через Нарин-гол и Хубуты. Однако Ветренный манил, как невыполненное обещание. Было решено: мы должны навестить его. Так родилась одна из самых продолжительных и щедрых на впечатления радиалок.
Утро встретило нас прохладой и ясным, будто отполированным небом. Предстояло пройти около пятнадцати километров в одну сторону с серьезным набором высоты. Рюкзаки, набитые бутербродами, шоколадом и термосами, казались на удивление легкими – предвкушение дороги перевешивало груз.
– Готовы к прогулке на весь день? – оглянулся наш руководитель, Максим, поправляя трекинговые палки. – Цель – увидеть то, чего нам не должно было быть.
Мы двинулись вверх по течению реки Перевальная. Ее буйный, пенный нрав был музыкой, сопровождавшей наш путь. Слева от тропы внезапно зияла глубокая расселина – каньон, творение древних ледников и неутомимой воды. Мы подходили к самому краю, с опаской заглядывая вниз, где в сумраке гудели струи, перемалывая валуны.
– Смотри-ка, мощно! – воскликнул Сергей, самый азартный наш фотограф. Он уже вовсю снимал на длинной выдержке, пытаясь поймать воду в шелковистые потоки. – Прямо Йеллоустоун в миниатюре.
Вскоре грохот воды стал оглушительным. Тропа сделала крутой поворот, и перед нами предстал водопад. Он не был высоким, но низвергался с яростью, разбиваясь о черные скалы в облако алмазной пыли. А ниже, выточив за тысячи лет идеальную чашу, ждала своего звездного часа «ванна» – бирюзовый омут с леденящей, прозрачной водой.
– Кто первый? – с вызовом спросила Лена, уже стягивая рюкзак. —Да ты с ума сошла! Вода же ледяная! – засмеялся я. – А ради чего тогда всё это? – парировала она и, скинув ботинки, окунула ноги в пенящуюся воду. Вскрикнула от шока, но лицо ее сияло восторгом. – Невероятно! Прямо джакузи от природы, только с функцией криотерапии!
Мы задержались у водопада, деля шоколад и восхищаясь силой стихии. Но Ветренный ждал. Дорога пошла круче, воздух стал разреженным, а лес поредел, уступив место альпийским лугам, усыпанным яркими пятнами цветов.
Подъем на сам перевал был долгим и монотонным, шаг за шагом, камень за камнем. Но когда мы наконец достигли седловины, зажатой между двумя скальными выступами, дух захватило уже не от усталости.
Ветер – и правда, здесь был полноправным хозяином – обрушился на нас, оправдывая название перевала. Он вырывал из гортани возгласы удивления и свистел в ушах, но мы не могли оторвать глаз от открывшейся картины.
Прямо у наших ног, в каменной оправе, лежали два абсолютных разных, но одинаково прекрасных озера. Их разделяла узкая скальная гряда, словно граница между двумя мирами. То, что было ближе к нам, сияло неестественно ярким, густо-лазоревым цветом, будто в его чашу вылили тонны акриловой краски.
– Ничего себе! – прошептал кто-то за спиной. – Как будто кусок неба упал.
А второе озеро, чуть дальше и выше, было совершенно иным – глубоким, спокойным, зеленовато-бирюзовым, как око древнего дракона. В его темной глади отражались проплывающие облака.
– Как так получается? – задумчиво спросила Лена, доставая фотоаппарат. – Они же рядышком. – Глубина, состав дна, микроскопические ледники, которые их питают, – начал заученно Максим, но потом махнул рукой. – Да какая разница! Просто смотрите. Это чудо, и ему не нужно объяснение.
Мы сидели на камнях на перевале, молчали и смотрели. Ветер выдувал из головы все лишнее, оставляя лишь чувство полного, безраздельного присутствия в этом величественном месте.
Обратный путь показался бесконечным. Ноги гудели от усталости, а до лагеря на Шумаке предстояло спуститься еще километров восемь. Мы шли почти в полном молчании, экономя силы, и только мысль о теплом ужине заставляла ставить одну ногу перед другой.
Когда сквозь сумерки мы наконец увидели огоньки наших палаток и знакомые силуэты, нас охватила тихая эйфория. А потом нас достигло – плывущий по холодному воздуху, густой и невероятно аппетитный запах.
Ребята, оставшиеся в лагере, уже всё подготовили. Из большой походной кастрюли на огне валил пар.
– Ну как, путешественники? – встретил нас Саша, разливая по мискам дымящееся содержимое. – Подкрепляйтесь. Гороховый, с копченостями.
Мы молча опустились на бревна вокруг костра, с благоговением принимая тяжелые, теплые миски. Первая ложка этого супа была не просто едой. Это был вкус абсолютного счастья, вкус завершенного дня, преодоления себя и щедрости друзей. Густой, наваристый, дымный – он был лучшим шеф-поваром всех альпийских лугов и перевалов.
– Знаешь, – сказал я, обращаясь ко всем и ни к кому конкретно, глядя на отблески костра в своих руках. – Мы сегодня шли не через тот перевал, который планировали. Но возможно, именно этот, Ветренный, и был тем, через что нам нужно было пройти.
В ответ за столом повисло одобрительное молчание, прерываемое лишь довольным хрустом сухарей. Это и был ответ. Идеальный конец для дня, длиною в десять часов.
Последний день на Шумаке. Золотое озеро
Последний день в долине Шумака выдался на удивление ласковым и солнечным. Воздух, чистый и прохладный, словно специально был создан для лёгких путешественников. Вместо тяжёлого многокилометрового перехода нам предстояла небольшая радиалка к Золотому озеру – прощальный подарок от этих волшебных мест. Всего пять-шесть часов пути, а впереди – вечер сборов и долгожданный ужин, который не придётся варить на горелке.
Тропа, будто чувствуя наше приподнятое настроение, ложилась под ноги мягко и послушно. Она вилась вдоль левого берега реки Шумак, уводя нас от источника вглубь долины. Мы шли по протоптанной дороге, любуясь открывающимися видами: суровые пики с белоснежными шапками, водопады, срывающиеся с ярусов, и яркие ковры альпийских лугов.
– Смотри, как вода переливается на солнце! – воскликнула Катя, моя спутница, указывая на один из таких водопадов. – Кажется, будто в ней рассыпано серебро. —Не серебро, – улыбнулся я. – Скоро увидишь золото. Настоящее.
Дорога действительно была удивительно удобной, будто её специально подготовили для туристов. Не было ни крутых подъёмов, выбивающих из сил, ни опасных осыпей. Лишь лёгкое, ненавязчивое движение вверх вдоль звенящего на перекатах Золотого ручья.
– Знаешь, почему эти озёра так называются? – спросил я, оборачиваясь к Кате. – Ну, из-за цвета воды на солнце, наверное? —И не только. Говорят, местные жители сравнивали их красоту с самыми дорогими драгоценностями. Одни – с серебром, холодным и сдержанным. А это – именно с тёплым, сияющим золотом.
И вскоре озеро предстало перед нами во всём великолепии, подтверждая своё имя. Золотое. Оно было первым на нашем пути и самым большим. Вода в нём имела невероятный, густой бирюзово-изумрудный оттенок, а на солнце поверхность искрилась и переливалась, словно расплавленный металл.
Из озера вытекал ручей, который тут же срывался вниз небольшим, но мощным водопадом. Поток бился о камни, наполняя воздух свежим прохладным грохотом и создавая у его подножия глубокий, прозрачный водоём-чашу.
– Вот это да! – замерла Катя. – А искупаться тут можно? —Обязательно нужно! – рассмеялся я. – Это же традиция! Испытание на храбрость.
Вода, как и ожидалось, оказалась ледяной, обжигающей кожу тысячами иголок. Но после короткого заплыва тело горело таким живым, ликующим жаром, что все хлопоты похода казались сущей ерундой. Мы сидели на тёплых камнях, грелись на солнце и делились бутербродами, в которых даже обычная колбаса казалась невероятным деликатесом.
Вечером, вернувшись на стоянку, нас ждали не самые приятные, но необходимые хлопоты: пора было собирать рюкзаки. Назавтра нас ждал переход к Нарин-Голу и подъём на перевал Обзорный – новый этап нашего путешествия.
Пока другие раскладывали по углам палатки нехитрый скарб, я напоследок отпросился и вновь поднялся к Шумакскому дацану. Маленький буддийский храм, затерянный в горах, манил своей тишиной и умиротворением. Я задержался там подольше, вдыхая аромат арсы (благовонии из можжевельника), слушая шелест хии морин – молитвенных флажков на ветру и тихий перезвон колокольчиков. В этой благодатной тишине, глядя на уходящие в небо вершины, я мысленно поставил перед собой четыре важнейшие цели, на ближайшее будущее, о которых я не буду Вам рассказывать, а то не сбудутся. Они родились сами собой, кристально ясные и простые, как всё в этом месте.
Спустившись, мы с ребятами совершили последнюю, прощальную прогулку к источникам, чтобы ещё раз испить целебной воды, и заглянули в местный магазин – крошечную деревянную избушку с минимальным, но для путника бесценным ассортиментом.
У прилавка наш философ Сергей, задумчиво разглядывая упаковку вафель, изрёк новую походную мудрость: – Знаете, я тут по размышлял, – сказал он с серьёзным видом. – Вафли за тысячу семьсот рублей кажутся дорогими только первые две недели. А потом ты понимаешь, что за эту цену ты покупаешь не просто еду. Ты покупаешь кусочек дома, вкус детства и мгновение сладкого блаженства здесь и сейчас. Это бесценно.