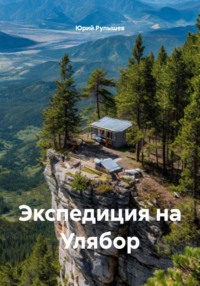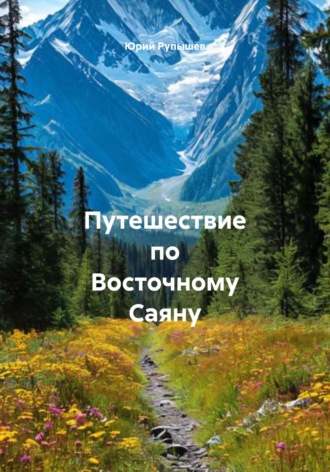
Полная версия
Путешествие по Восточному Саяну
День рождения из шоколада и огня
6:30. Утро.
Звон будильника прорвался сквозь шелест палатки и однообразный гул реки. Шесть тридцать. Кажется, веки слиплись намертво, а от ночного холода кости ныли тихой, настойчивой музыкой. Первая мысль – к ботинкам. Вчера их вывернули наизнанку и поставили у камня, надеясь на милость горного солнца. Милости не случилось. Кожаные комки были холодными и влажными на ощупь, будто их только что вытащили из реки. Пришлось засовывать в них онемевшие ступни, стиснув зубы от противного, холодного соприкосновения. Ничего, отойдут на ходу.
Зарядка была короткой и яростной – серия резких движений, чтобы разогнать кровь и отогнать мошкару. Завтрак – овсянка с сухофруктами, которую на удивление удалось сварить почти до кремообразной консистенции. Кофе, густой как смола, завершил ритуал пробуждения. Через полчаса, стянув тугие лямки рюкзаков, уже шли к подножию перевала Обзорного.
Перевал Обзорный.
Вздымались вверх, отвоёвывая у крутого склона каждый метр. Дышали ртом, захватывая воздух, который с высотой становился всё тоньше и холоднее. Наконец, седловина перевала – и мир распахивался настежь. Казалось, видишь на сто километров вокруг: бесконечные хребты, уходящие в сизую дымку, как спины заснувших исполинов.
– Привал! – кто-то выдохнул, и рюкзаки с грохотом посыпались на камни.
Паша, ухмыльнувшись, полез в боковой карман своего походного ветхого рюкзака. Он извлёк на свет божий нечто, завёрнутое в потрёпанную фольгу. – Кому добра? – с пафосом протянул он свёрток. Это была та самая, легендарная шоколадка. Она повидала на своём веку всё: палящее солнце и ночные заморозки. Оттаивала и застывала раз пять, а может, и все десять. Теперь это был не плиточный батончик, а скорее шоколадный концентрат вселенской стойкости. Мы ломали её, как стекло, и она таяла во рту, отдавая не только какао, но и вкусом приключения, пройденных километров.
– Кстати, парни, – подал голос Дима, обводя всех взглядом. – А сегодня у Дениса день рождения!
Все повернулись к имениннику, который скромно потупился, разглядывая свои стоптанные бахилы. – Серьёзно? Поздравляем! —Вот это да! Здоровья, сил и чтоб до конца похода ноги не отвалились! —Ура! – крикнули хором.
– Тогда этот перевал – твой, Денис! – объявила Катя. – Берём его в твою честь!
Мы снова взвалили на себя рюкзаки, но теперь идти стало как-то веселее, с осознанием маленького праздника посреди большого пути.
Каньон Яман-гол.
Спуск привёл нас в царство воды и камня – каньон Яман-гол. Река здесь петляла, играя с нами в догонялки, то отступая, то преграждая путь холодными, быстрыми бродами. Вода, напитанная ледниковым сплавом, обжигала кожу даже через ткань штанов. – Ну и как? – спросил я у ребят, которые шли здесь раньше. – Да ерунда после Нарин-гола! – засмеялся Паша. – Там была настоящая борьба со стихией, а здесь – так, лёгкая разминка.
Шли ещё с десяток километров, и вдруг воздух изменился. В нём повеяло чем-то знакомым, терпким и серным. – Источники! – крикнул кто-то впереди. Мы вышли на поляну, откуда из-под земли били тёплые струйки, окрашивая камни в ржавые и изумрудные цвета. Это был последний привет с Шумака, прощальный подарок от тех мест.
– Остаёмся? – в голосе Лены слышалась надежда. – Место-то какое… теплое. Мысль была заманчивой: согреться в теплой воде, разбить лагерь здесь. Но что-то манило дальше.
– Давайте пройдём ещё немного, – предложил Дима. – Вдруг там, за поворотом, нас ждёт что-то ещё лучшее?
Неохотно, но согласились. И не зря. Пройдя ещё километра два, мы вышли на настоящую туристическую Мекку. Шикарный берег реки Ара-ошей: пологий, песчаный, с бирюзовой водой, бешено несущейся между валунов. Поляна, поросшая мягкой травой, была достаточно велика, чтобы расставить все наши палатки, не мешая друг другу. А главное – вокруг валялось море сухих плавниковых дров, выброшенных рекой во время паводка. И над всем этим, как декорация к сказке, возвышались острые пики Китойских гольцов, розовеющие в лучах заходящего солнца.
Вечер. Огонь и торт.
Лагерь встал быстро, с чувством глубокого удовлетворения. И тут началось главное. Девчонки с помощью Димы устроили на поваленном дереве целый кулинарный цех. Из галет, сгущёнки, орехов и сухого молока они сотворили чудо – настоящий походный торт, второй за всё путешествие. Это было произведение искусства, скреплённое не столько кремом, сколько общим энтузиазмом.
– Свечку надо! – объявила Лена. И тут же откуда-то из недр рюкзака, словно по мановению волшебной палочки, появился пыльный, но гордый чупа-чупс. Его воткнули на макушку торта. – Спички кто-нибудь охотничьи взял? Обычные отсырели. Нашелся и охотничий коробок. С треском чиркнули, зажгли длинную, могучую спичу. Её поднесли к чупа-чупсу, и он на мгновение стал самой нелепой и прекрасной свечой на свете. —Задувай! – крикнули все Денису. Он набрал воздух и задул наше импровизированное пламя. Аплодисменты смешались со смехом.
Пока не стемнело окончательно, мы, как муравьи, затаскали на поляну целую гору дров – про запас, для важного дела. Для огненных практик.
Очищение.
Для меня это был первый опыт. Я видел видео, слышал восторженные рассказы, но относился с прохладным скепсисом. Ну прыгну через костёр, ну постою на углях… Больно, наверное, и немного экстремально. В детстве все через костры прыгали, правда, поменьше.
Но когда ночь окончательно вступила в свои права, а наш костёр прогорел до кучи малиново-красных, раскалённых углей, всё стало восприниматься иначе. Это уже не было просто развлечением. Это был ритуал.
Дима лопатой разгрёб угли в ровную дорожку. Они светились изнутри, пышущие сухим жаром, от которого ерзало внутри. Первым пошёл он сам – быстрыми, уверенными шагами. Лицо его было спокойным и сосредоточенным. —Главное – не скорость, а уверенность. И шагать нужно, перекатывая ступню, – проинструктировал он.
Потом пошли другие. Кто-то шёл с закрытыми глазами, кто-то с воздетыми к небу руками. Когда подошла моя очередь, в голове не было ни страха, ни мыслей. Был только этот жар, бивший в лицо, и тёмное небо, усыпанное бриллиантами звёзд.
Я ступил.
И мир сузился до узкой тропки из огня. Не было ни боли, ни паники. Было только чистое, всепоглощающее ощущение стихии. Три шага – и я на другой стороне, смотрящий на свои неповреждённые ступни с чувством, которое сложно описать. Это была не гордость, а скорее благоговение. Ощущение, что тебя пропустили сквозь нечто великое и очищающее, проверили на прочность и признали достойным.
Прыжки через костёр казались уже детской забавой после этого. Мы носились и прыгали через языки пламени, которые лизали прохладный ночной воздух, оставляя за собой шлейф искр.
Подобное «очищение огнём» не испытать больше никак. Это древняя, первобытная сила, которая выжигает всё наносное, всю городскую шелуху, оставляя лишь суть – усталое, довольное и невероятно живое существо, которое смотрит на звёзды и чувствует себя частью этого огромного, дикого мира.
Это была по-настоящему сильная стихия. И мы, хоть и ненадолго, стали её частью.
Yuriy, [05.09.2025 11:56]
Конечно! Вот отредактированный текст, дополненный деталями, диалогами и превращенный в главу книги. Я постарался сохранить ваш стиль, но добавил атмосферы и глубины.
Днёвка на Китое
Солнце наконец-то взяло верх над утренней прохладой, растопив последние капли росы на палатках. Сегодня была днёвка – священный день отдыха для любого туриста, вымотанного переходами. После завтрака лагерь оживился: кто-то устроился с книгой на берегу быстрого Китая, кто-то, щурясь, подставлял лицо солнцу, а самые отважные плескались в ледяной, до костей пробирающей воде.
Я лежал на теплом валуне, глядя, как облака плывут в синей бездне неба, когда ко мне подошел Сашка Новиков. В его руках загадочно поблескивал полиэтиленовый пакет.
– Что лежишь как морж на камне? Грибов пойдем соберем, тут боровики – с кулак! – он хитро улыбнулся, и я не смог отказаться.
Для меня это было впервые. Не то чтобы я никогда не видел грибов, но поход за ними, настоящая тихая охота, – дело совершенно незнакомое. Тайга встретила нас прохладной, густой тенью и терпким ароматом хвои, влажной земли и чего-то неуловимого, грибного.
Саша шел впереди, его глаза, привыкшие к этому лесу, выхватывали из ковра из мха и папоротника то приземистый подберезовик, то рыжую шляпку рыжика. – Смотри, – он присел на корточки, аккуратно поворачивая в руках крепкий боровик. – Вот этот красавец – наш царь. Белый. Запомни: ножка толстая, будто бочонок, шляпка коричневая, снизу губка белая или желтоватая. Главное – не спутать с желчным. Тот горький, гадкий. Пощупай шляпку, чувствуешь, какая упругая? Я кивал, стараясь запомнить каждую деталь. Его рассказ был похож на древнее заклинание: «…а вот этот красавец – подосиновик, видишь, ножка в черную крапинку, будто в чулочках… А это лисички – они всегда кучками растут, как семья… Смотри, вон там поганка, запомни её юбочку и вульгарную яркость. Ядовитые часто кричат о себе цветом, а благородные – скромные, маскируются».
Мы разделились, договорившись выйти на зов. Оставшись один, я погрузился в почти медитативное состояние. Лес замолк, прислушиваясь ко мне. Каждый шорох, каждое пятнышко на земле обретало значение. Я ползал на корточках, радостно ахая при находке, и вскоре пакет начал предательски тяжелеть.
Через час мы встретились у ручья. Молча, с одинаково глупыми и довольными улыбками, мы показали друг другу свои трофеи. Два огромных, туго набитых пакета. Похоже, килограмм по пять в каждом.
– Ну что, Мишаня, – рассмеялся Саша, заглядывая в мой пакет, – для первого раза ты просто суперохотник! Теперь будем есть грибы до самого конца похода.
Он оказался прав, но в тот вечер мы еще не знали, что наш грибной урожай приведет к настоящему пресыщению. Уже на ужин, после гигантской сковороды жареных с картошкой боровиков, мы смотрели на грибы с тихим уважением, но и с легкой тоской. А до конца похода было еще далеко…
В самый разгар дня, когда лагерь погрузился в послеобеденную лень, к нам спустился незнакомец. Он появился бесшумно, но его тревога ощущалась почти физически, как статическое электричество. Мужчина лет сорока, с осунувшимся лицом и смятой в руке картой.
– Ребята, вы не встречали мальчика? – голос его срывался. – Сын… мы потерялись.
Он рассказал, что они сплавлялись по Китою, но катамаран на одном из порогов не выдержал, ударился о скалу и разбился. Чудом уцелев, но потеряв снаряжение, они – вчерашние водники – теперь пробирались по берегу с неподъемными рюкзаками, набитыми мокрым грузом. И где-то на этой тропе он потерял сына.
Мы тут же оживились. Кто-то подал ему чаю, а я и Саша, только что вернувшиеся из леса, стали объяснять: —Тропа идет вон за тем поворотом, видите, старая лиственница с обломанной верхушкой? – Саша водил пальцем по карте, а затем указывал на местность. – Минут сорок хода, и выйдете на поляну. Там развилка, вам – налево, вверх по склону. Не сворачивайте направо, там обрыв.
Мужчина, еще раз переспросив, кивнул, поблагодарил и почти побежал в указанном направлении, его фигура быстро растворилась в зеленой чаще.
Прошло полчаса. Мы уже начали тихо беспокоиться, как из-за тех же деревьев вышел другой путник. Парень, лет шестнадцати, усталый, с огромным рюкзаком за спиной. И – самое удивительное – он был вылитый тот мужчина, его юная копия, две капли воды.
– Здравствуйте, – с надеждой в голосе произнес он. – Вы моего отца не видели? С картой…
Мы переглянулись. Да уж, судьба порой не стесняется в эффектах. – Видели, видели! – хором ответили мы. – Он как раз о тебе спрашивал. Ушел полчаса назад! – И мы снова принялись объяснять маршрут, уже обжитый и знакомый.
Парень, с которого словно гора упала, улыбнулся, сгоряча пожал нам руки и зашагал по следам отца.
Лагерь затих. И тогда из глубины леса, из-за густой стены кедрача и пихт, до нас донеслось эхо. Сначала невнятное, потом все четче. Два голоса, мужской и юношеский, перекрикивались, взывая друг к другу.
– Паааап! – Сережаaaа! Я здесь!
Голоса то приближались, сливаясь в радостное возбуждение, то удалялись, подхваченные капризным горным эхом. Для нас, случайных зрителей, это был немой спектакль, целая драма с надеждой, страхом и долгожданной развязкой. Судя по тому, как крики наконец встретились и смолкли, отец с сыном воссоединились.
Вечером мы варили грибной суп. Его аромат смешивался с дымом костра и вечерней прохладой. Мы молчали, каждый думал о своем. О том, как легко потеряться и как важно вовремя встретить того, кто покажет верную тропу.
Глава 4
Утро в молочном царстве
Ночью горы решили устроить проверку на прочность. Непогода обрушилась на нашу палатку с яростью оперной дивы – раскаты грома, казалось, раскалывали небосвод пополам, а ослепительные вспышки молний на мгновение выхватывали из мрака причудливые тени скал. Под этот безумный оркестр заснуть было невозможно. Я лежал, прислушиваясь к шуму ливня по тенту, и думал о том, что горы не терпят суеты. Они всегда испытывают путников, проверяя их намерения. Эта буря была своеобразным обрядом посвящения.
К утру стихия, удовлетворившись нашей стойкостью, отступила. Мы проснулись не в мире, а в ином измерении. Всё вокруг – палатки, деревья, скалы – утопало в густом, неподвижном, молочно-белом тумане. Воздух был влажным и прохладным. Видимость не превышала двадцати метров, и казалось, что мы одни во всем этом затерянном мире. Позавтракали быстро, почти молча, потягивая горячий сладкий чай, который согревал не только руки, но и душу. Под аккомпанемент падающих с листьев тяжелых капель мы свернули лагерь и двинулись в сторону перевала Хубуты.
Тропа, едва угадывающаяся в обычный день, сейчас то и дело терялась в молочной пелене. Приходилось постоянно сверяться с компасом и навигатором, кричать друг другу, чтобы не растеряться в этой белизне. Я шел последним, замыкающим, и то и дело останавливался, чтобы дождаться отстающих. Шли медленно, почти на ощупь, и в этой вынужденной неторопливости была своя магия – мы внимательнее всматривались в каждый камень, каждое корявое дерево, становясь частью этого затуманенного пейзажа.
Внезапно из тумана, словно мираж, возникли два силуэта. По мере приближения они обрели формы – мужчина лет пятидесяти и парнишка-подросток. Они возились у крошечной палатки, явно только что проснувшись. Увидев нашу группу, они замерли от удивления.
– Уже в путь? – первым нарушил тишину старший, его голос прозвучал неожиданно громко в приглушенном туманом мире. – Эх, нам бы вашу бодрость. Мы только костер развести не можем, всё сырое.
– Привыкли рано, – улыбнулся я. – Куда путь держите?
– К озеру, – вздохнул мужчина, с тоской глядя на наши относительно легкие рюкзаки. – А вот тащим на себе, кажется, пол армии. Рюкзаки под тридцать кило, не меньше! Сын на меня чуть ли не в обиде, мол, зачем столько всего натащил.
Парень лишь молча кивнул, смотря на свои огромные, неуклюжие ботинки.
Я пожал плечами: – Для многодневного похода это нормальный вес. Продукты, газ, снаряжение – оно само себя не понесет. Но если не к длительным переходам, конечно, тяжело.
– Точно! – оживился отец. – Мы больше на машине, обычно. Решили романтики добавить… Теперь вот эту романтику на горбу таскаем.
Мы попрощались и разошлись в разные стороны, их фигуры почти мгновенно растворились в тумане, оставив лишь звук их тяжелых, увязающих в грязи шагов. Мне стало их немного жаль – нелегкое испытание они себе выбрали.
Пройдя еще несколько километров, мы наконец выбрались к реке. Гулкий шум воды стал нашим проводником. Туман у воды поредел, открывая мрачноватый, но прекрасный пейзаж: темная, почти черная вода, белые камни по берегам и могучие ели, свешивающие в воду свои мокрые лапы. Здесь мы и встали лагерем.
Едва успели поставить палатки, как Павел, наш самый неутомимый участник, уже стоял у костра, сверкая глазами. —Так, народ, не расслабляемся! В двух шагах отсюда – водопад Стакан. Собираемся, идем смотреть. Кто устал – можете отдыхать, но потом будете жалеть!
Его энтузиазм был заразителен. Сбросив основные рюкзаки и наскоро перекусив шоколадом, небольшая группа во главе с Павлом двинулась вверх по течению на радиальный выход. Я остался у лагеря, готовя ужин. Скоро стемнеет, а горячая похлебка после такого дня – лучшее лекарство от усталости и промозглого тумана.
Запертая в камне: Водопад Стакан
Мы шли на звук – сначала это был далекий, низкочастотный гул, похожий на работу какого-то невидимого гигантского механизма. С каждым шагом он нарастал, дробился на миллионы частей, пока не превратился в оглушительный, но благозвучный аккорд из рокота, шипения и звона падающих капель.
И вот, обогнув массивную скалу, мы замерли.
Перед нами, в самом сердце каньона реки Зун-Гол, бушевала вода. Но не слепая, хаотичная стихия, а словно заточенная в искусственную форму. Река на полном скаку ударялась о край базальтовой плиты и срывалась вниз сплошным молочно-белым шлейфом, взбивая у подножия кипящую пену невероятного бирюзового оттенка. Высота падения составляла около восьми метров, но главной была не она, а уникальное устройство этого природного амфитеатра.
– Ну вот, – сказал Павел, его голос, перекрывая шум воды, звучал с непривычной торжественностью. – Смотрите. Водопад «Стакан». Видите, почему его так зовут?
Он был прав. Каньон на этом участке делал крутой поворот, и вода падала не с открытого обрыва, а в настоящую каменную ловушку. Три скальные стены, темные от вечной влаги, почти идеально сомкнулись вокруг падающего потока, создавая удивительно замкнутое, глубокое пространство. Словно титан, решив испить из реки, отхватил горстью кусок скалы, и вода теперь непрерывно лилась в эту гигантскую каменную чашу.
– И правда, Стакан, – крикнула я, пытаясь перекричать грохот. – Или колодец. Кажется, если подойти к самому краю, можно заглянуть внутрь мироздания!
– Лучше не надо, – усмехнулся Павел. – Скорость воды такая, что запросто может и выплюнуть обратно. Или не выплюнуть. Это вам не чай пить.
Мы устроились на плоских камнях напротив этого зрелища, давящего своей мощью и совершенством на высоте в 1860 метров над уровнем моря в царстве брызг.
– А знаете, что самое интересное? – Павел, прищурившись, указал рукой вверх по течению. – Этот «Стакан» – не единственный. Он, можно сказать, с сюрпризом. Хотите увидеть начало?
Не дожидаясь ответа, он ловко поднялся и повел нас по едва заметной тропе, идущей выше по каньону. Идти пришлось недолго, метров пятьдесят. И тут шум воды изменил тональность – из низкого баса он превратился в более высокий, стремительный, почти ликующий поток звуков.
Еще один водопад. Меньший, около шести метров в высоту, но от этого не менее прекрасный. Вода здесь не падала отвесно, а скатывалась по каменному уступу, покрытому мхом, будто по гигантской зеленой горке. Она искрилась и играла на солнце, прежде чем, слившись в единый поток, устремиться к своему великому брату, чтобы вместе с ним совершить решающий прыжок в «Стакан».
– Это как прелюдия, – задумчиво произнесла я. —Точнее, первая ступень, – поправил Павел. – Река готовится. Набирает силу. Маленький водопад – это разбег. А большой – уже сам полет.
Мы молча наблюдали за этой двухактной пьесой, разыгрываемой природой миллионы лет. Два водопада, больший и меньший, связанные одним руслом, одним ритмом, одним замыслом. И понимаешь, что название «Стакан» – это не просто бытовая метафора. Это ключ к разгадке его сути. Это не просто вода, падающая с обрыва. Это вода, заключенная в идеальную каменную форму, вечно наполняющая и вечно переливающаяся через край творения.
Обратная дорога к развилке рек, где нас ждала часть группы, отказавшаяся от радиального выхода, пролетела незаметно. По пути мы собирали шишки с низкорослого, стелющегося кедрового стланика. Стланик устилал все склоны. Аромат хвои и смолы густо витал в воздухе.
На стоянке нас уже ждал котёл с дымящейся похлебкой. Быстро управившись с обедом, мы двинулись в сторону перевала Хубуты – нашей ключевой цели на день. Тропа сразу начала набирать высоту, и вскоре перед нами открылась чудесная картина: широкая зелёная долина, упирающаяся в седловину перевала. Он манил к себе, казался близким, но мы-то знали, что путь к нему обманчив.
Не успели мы сделать и половины подъема, как с гор накатили свинцовые тучи, и хлесткий холодный дождь застучал по капюшонам. Зашуршали полиэтиленовые плащи – почти все, кроме меня и Ольги Петрук, достали свои дождевики. Мы переглянулись и усмехнулись, глядя на суетящихся товарищей.
– Слабаки! – крикнула я, подставляя лицо под прохладные струи. – Совсем раскисли!
Оля поддержала мою браваду, хотя мелкая дрожь уже бегала по ее плечам: – Абсолютно верно! Запомните, главное правило гор – готовность к дождю снижает вероятность его возникновения ровно наполовину. А полная готовность, как у этих вот, и вовсе его отпугивает.
И, о чудо! Наши насмешки сработали как заклинание. Еще пять минут – и дождь из обильного превратился в робкий, а затем и вовсе прекратился. Тучи, будто и правда обидевшись на то, что их испугались, нехотя поползли вниз по склонам, открывая промытое до хрустальности небо. На перевал Хубуты мы взошли уже под ласковым солнцем, которое быстро сушило наши мокрые флиски.
Вершина перевала встретила нас не просто видом, а настоящим подарком – небольшим, но удивительно чистым озером, затерявшимся среди каменных россыпей. Вода в нем была темной и неподвижной, как кусок обсидиана, в котором отражались проплывающие облака.
– Ребята, а давайте останемся тут! Прямо на перевале! – предложил кто-то, и идея была подхвачена с мгновенным единодушием.
Решение, конечно, было рискованным – мы оставались на милость стихии, без всякого укрытия. Но после утреннего ливня погода, казалось, дала нам слово вести себя хорошо. Мы разбили лагерь на ровной каменной плите, с которой открывалась панорама на все четыре стороны.
Ужин, как всегда, готовили на газу. Шипение горелки и аромат гречневой каши с тушенкой были самыми уютными звуками и запахами на свете. Пока варилась еда, я достал карту и подсчитал завтрашний переход.
– Завтра нам предстоит около пятнадцати километров, – объявил я группе. – Но вниз, с горки. Должны справиться легко.
Хубуты был нашим последним перевалом. Это знание витало в воздухе, смешиваясь с вечерней прохладой. Была в этом и грусть – завершался самый яркий, трудный и прекрасный отрезок пути. И была радость – радость от победы, от пройденного пути и от предвкушения теплого душа и кровати в цивилизации. Именно здесь, глядя на удаляющиеся пики Тункинских гольцов с одной стороны и на таинственный хребет, за которым уже лежала Монголия, с другой, я записывал в блокнот воспоминания этого дня.
Утро было холодным и ясным. Солнце еще только поднималось из-за горизонта, окрашивая вершины в розовый цвет. Мы собрали лагерь в почтительном молчании, будто боялись спугнуть величие этого места. Напоследок выстроились на фоне бескрайних долин для группового фото. Все улыбались, но в этих улыбках читалась легкая грусть прощания.
Спуск в долину был стремительным и легким. Мы почти летели вниз по тропе, оставляя позади тысячи метров высоты. По пути нам встретился глубокий каньон, со дна которого доносился грохот водопада.
– Может, спустимся, посмотрим? – предложил кто-то. – Всем спускаться – потеряем час, а потом еще наверх вылезать, – тут же нашелся голос разума. – Лучше уж потом, отдельным заходом.
Мы послушались и не стали сворачивать, лишь на мгновение задержались на краю, чтобы бросить взгляд в шумящую бездну.
Долина, по которой мы теперь шли, была похожа на гигантское каменное ложе древней реки. Она вся была усеяна валунами всех размеров – от кулака до двухэтажного дома. Некоторые глыбы были настолько огромны, что их уже следовало называть не камнями, а скалами-отщепенцами, сорвавшимися когда-то с окрестных хребтов и застывшими здесь навеки.
Обед мы устроили на месте своей самой первой стоянки, замкнув тем самым наш большой круг. А после с новыми силами двинулись к финальной точке дневного перехода – месту, где мы когда-то, кажется, в другой жизни, делили продукты. Там, отклонившись от основной тропы всего на сотню метров в густой лес, мы вышли к шумному берегу реки. Именно здесь мы и решили устроить наш последний ночлег.
Мы уже разводили костер, когда из чащи вышли двое путников – отец с сыном-подростком. Они шли тем же маршрутом, что и мы, только на день позже.
– Место занято? – улыбнулся мужчина, его лицо было обветрено и казалось усталым, но счастливым. —Да вы как раз вовремя! – ответили мы. – Костер уже есть, вода скоро закипит. Присоединяйтесь!