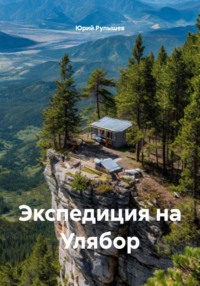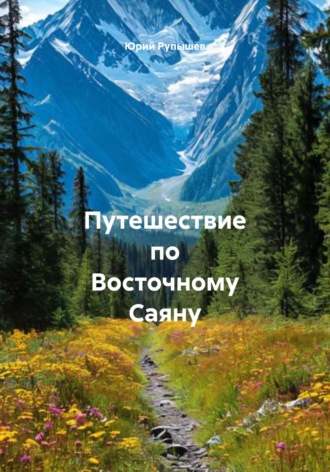
Полная версия
Путешествие по Восточному Саяну
Дверь избушки с грохотом распахнулась, впустив внутрь не столько людей, сколько клубящуюся тьму, колючий ветер и запах мокрой ваты. Друганы ввалились в предбанник, тяжело дыша и отряхиваясь, как медведи после купания. Снег с их курток падал на пол хлопьями грязного ватного одеяла.
– Тьфу ты, пропасть! – первым выдохнул Мих, сдирая с себя промокшую до нитки шапку. – Кажется, мы туда забрались, откуда даже ангелы до Бога долетают с опозданием.
Изба была маленькая, пропахшая дымом и смолой, но после лесной темноты и пронизывающего ветра она казалась райским уголком. Печка, которую мы истопили пышала жаром, от её чугунных боков шел живой, согревающий душу свет. Мы молча, с каким-то животным блаженством, сгрудились вокруг неё, протягивая к теплу закоченевшие пальцы.
– Птички-то эти, рябчики… хит-ро-по-пые! – начал Саша, размораживая язык. Он был главным инициатором этой охоты и теперь, снимая промокшие штаны, с азартом живописал наши злоключения. – Сидят, понимаешь, на ветке, курлычут себе. Подходишь на манок – вроде отзываются. Сделаешь шаг – а они уже на три дерева дальше! Мы за ними, они от нас. Так почти до самого перевала и допрыгались.
– Забрались, как лоси благородные, – хрипло рассмеялся я, добавив заварки в кипящую воду. – Охота не задалась, кроме двух первых. Больше ни шиша не видели. Вернее, видели, но только пятки.
– Да и фиг с ними! – махнул рукой Саша, уже грея над плитой руки. – Нам много мяса не надо. Двух рябчиков на троих – как раз на бульёнчик наваристый. Для души.
Эти слова стали сигналом к действию. Миха, как главный добытчик, с важным видом достал из рюкзака небогатый трофей – небольших рябчиков, еще теплых. Птицы были аккуратно подстрелены, оперение переливалось в свете печки серыми и рыжими оттенками.
– Пойду, разделывать буду, а то протухнет ещё благородное мясо, – заявил он и, вооружившись ножом, вышел в сени, на морозец.
Мы с Сашей тем временем занялись своим делом. Достали котелок, набрали снегу, поставили на печку. Пока снег таял, и вода начинала закипать, я насыпал в нее крупной соли, а Саш помешивал её щепкой, прикидывая на глазок концентрацию.
– Главное – не пересолить, а то вместо бульона рассол получится, – философски изрек он.
В этот момент из-за двери раздался крик. Не просто возглас, а какой-то истошный, перекошенный ужасом вопль. Он был таким неожиданным и чужим в нашей уютной истоме, что у нас с Сашей кровь буквально застыла в жилах. Мы переглянулись на долю секунды – в глазах у обоих читался один и тот же вопрос: «Что там?!» – и пулей вылетели во двор.
Картина, открывшаяся нам, была до того нелепой, что могла бы украсить любую юмористическую выставку. «Картина маслом: «Охотник в недоумении». На снегу, в свете звезд и отблесках из оконца, сидел Миха. В одной руке он сжимал тушку рябчика, в другой – свой острый нож. А на лице застыла такая гримаса вселенской растерянности, будто он только что увидел, как снег покраснел.
– Мищ! Ты чего? – выдохнул я, опасливо оглядываясь по сторонам в ожидании медведя или, на худой конец, разгневанного лешего.
Миша медленно, как автомат, поднял на нас глаза. В них плескался неподдельный ужас, смешанный с отвращением.
– Его… его нельзя есть, – мрачно, отчеканивая каждое слово, промолвил он.
– Кого? Рябчика? – не понял Саш. – Почему?
– Больная птичка! – Миха ткнул пальцем в тушку. – Смотрите!
Он перевернул рябчика, и в лунном свете мы увидели то, что привело его в такой ступор. На шее у птицы зиял неровный разрез, из которого выпирала огромная, уродливая шишка. Она была багрово-синего цвета, неестественная и пугающая.
– У неё… опухоль! – с придыханием произнес Саша. – Раковая! Я такое у соседского кота видел. Чёрт! Единственная добыча, и та заражённая!
Я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги. Весь день по колено в снегу, надежда на горячий бульон, и вот такой финал. Тоска, хуже горькой.
Но Саша, к счастью, не растерялся. Он присел на корточки, пригляделся, потом аккуратно ткнул в «опухоль» пальцем. И вдруг… рассмеялся. Сначала тихо, потом все громче, до слез.
– Миха, да ты что! Это же не рак! – сквозь смех выговорил он. – Это зоб у неё!
Мы с Мишей уставились на него в полном недоумении.
– Зоб? – переспросил я. – Это что-то вроде аппендицита?
– Да нет же! – Саша вытер глаза и принялся просвещать нас, городских недоумков. – Зоб – это такой мешок у птиц, в котором еда копится перед тем, как отправиться в желудок. Она там зернышки, хвою всякую складывает. Он у всех лесных птиц есть. Просто этот рябчик, видать, перед смертью хорошо поужинал, вот зоб и раздуло. Не опухоль это, а столовка птичья!
Облегчение, хлынувшее на нас, было таким же горячим и приятным, как жар от печки. Мы с Мишей переглянулись и тоже расхохотались, уже над собой, над своей паникой. Миша, покраснев, быстренько до ковырялся до зоба, вытащил его и отшвырнул в снег.
– Ну, слава богу! – просиял он. – А я уж думал, нам тут от радиации светиться начать.
На радостях, вернувшись в избу, мы решили, что рябчиков для праздника жизни маловато. И тут я вспомнил про заначку.
– А давайте торт замутим! – предложил я. – У меня банка сгухи и коробка кукурузных хлопьев рюкзак жгут уже который день.
Идею подхватили с энтузиазмом. Пока наш рябчик томился в бульоне, я принялся за кулинарный шедевр. Сгущенку вывалил в миску, перемешал с хлопьями. А потом, о счастье! Проследив взглядом за пробегавшей мышкой, я обнаружил под нарами старую, чугунную сковородку. Забытая, но еще вполне годная. В полумраке, не глядя, протер её горстью снега, показалось, что и так сойдет. Быстро замесив «тесто», утрамбовал его в сковородку и выставил за дверь, на мороз, чтобы торт «схватился».
Делал я всё это почти в полной темноте. Батарейки в наших самопальных фонариках сели окончательно. Единственным источником света была печка: из её открытой дверцы лился неровный, пляшущий оранжевый свет. Его хватало ровно на то, чтобы различать силуэты и не сшибаться лбами.
Через полчаса мы уже сидели на полу вокруг деревянного ящика, уплетая наваристый бульон и причмокивая. Настал черед десерта. Я внес заиндевевшую сковородку и с гордостью разрезал пласт торта на три части.
– Ну, за победу над птичьим раком! – провозгласил Саша.
Мы взяли по куску. Первый сладкий вкус сгущенки и хруст хлопьев были божественны. Но потом… потом на язык попала какая-то горькая, едкая нота. Я поморщился.
– Странный привкус, – сказал Мих, разжевывая свою порцию с подозрительным видом. – Горький какой-то. Не прогорклая ли сгуха?
– Да нет, вроде бы… – я протянул руку к печке, чтобы в ее свете разглядеть свой кусок. И тут Саша, который молча ковырялся в своей порции вилкой, вдруг выругался.
– Блин, ребят… а это что?
Он поддел вилкой и поднес к слабому свету маленькую, темную гранулу. Затем еще одну. Мы наклонились ближе. В сладкой массе, особенно на дне, виднелись крошечные черные шарики.
Наступила секунда ошеломленного молчания. А потом изба взорвалась таким многоэтажным, витиеватым матом, что, казалось, с потолка посыпалась труха. Мы поняли всё. Сковородка. Мыши. И их «добавка», которую я благополучно не отмыл в темноте.
– Вот блин! – выдохнул я, с отвращением отодвигая от себя сковородку. – Теперь буду знать: найденную в зимовье посуду мыть до скрипа! Даже если темно и лень!
Выбросив «шедевр» и заев горечь хлебом, мы еще долго смеялись над этим финалом. Бульон был отменным, а урок – бесценным. В конце концов, именно из таких вот провалов с мышиным пометом и рождаются самые запоминающиеся байки у костра.
Снег валил всю ночь, не переставая, упрямо и основательно, словно хотел замести под собой всё сущее. И утро следующего дня родилось в абсолютной, оглушающей тишине. Мир стал белым, стерильно-чистым и невероятно хрупким. Свет, отражавшийся от бесконечного снежного покрывала, был слепящим.
Вышли из зимовья поздно, когда уже отчаялись дождаться перемен. Тропить предстояло заново, и с первого же шага стало ясно, что это будет каторгой. Снег местами был выше пояса, рыхлый и бездонный. Каждый шаг превращался в отдельное сражение: нога проваливалась, тело наливалось свинцовой усталостью, а до цели, казалось, не стало ближе ни на метр.
– Так мы до перевала к вечеру не доползем, – выдохнул я, остановившись, чтобы перевести дух. Мои легкие горели огнем, а спина была мокрой от пота. – Сил на рюкзаки не хватит.
Мой напарники, Саша и Миша, стояли по колено в снегу, внимательно оглядывая склон, уходящий в молочно-белую мглу. Они были старше и опытнее, и я уже научился доверять их молчаливому анализу.
– Бросаем рюкзаки, – голос Саши прозвучал глухо в этой ватной тишине. – Протропим только дорогу. До границы леса, до каменных россыпей. Там ветер сдувает снег, идти будет легче. Вернемся ночевать в избушку, а утром по готовой лыжне за полчаса взлетим на перевал. Свежими.
Идея была разумной, почти гениальной в своей простоте. Скинув тяжелые рюкзаки у сруба, мы почувствовали себя невесомыми. Дорога, хоть и невероятно трудная, пошла быстрее. Мы шли по очереди, меняясь каждые пятьдесят шагов: первый прокладывал колею, из последних сил продавливая грудью снежную целину, второй и третий в это время отдыхали, дышали, глотая ледяной воздух. День уходил на это медленное, методичное плавание по белой пустыне.
До границы леса мы все-таки добрались. Ступив на первые крупные камни, оголившиеся от снега, мы молча обернулись. Внизу, в таежной чащобе, виднелась наша одинокая избушка, а за ней терялась в тумане долина. Путь был проложен. Усталые, но довольные, мы почти легко спустились по своей же лыжне обратно.
Но голод, терзавший наши молодые, прожорливые организмы, требовал своей доли. Мысль о консервах и сухарях уже не грела. Хотелось свежего мяса.
– На уступ сходим? – предложил я, уже зная ответ. – Вчера там следов кабарги – как на проспекте.
Михаил лишь кивнул, и, захватив ружье и немного сухарей, мы свернули к реке. Место было идеальным для засады: узкая ступень крутого уступа, куда зверек выходил кормиться хвоей пихт. Мы устроились среди огромных, занесенных снегом валунов, замирая в ожидании.
Сначала было терпимо. Луна, бледным привидением за облаками, отбрасывала на снег таинственные, размытые тени. Тишина была абсолютной, лишь изредка ее разрывал треск оседающих от мороза ветвей. Потом снова принялся сыпать снег – мелкий, колкий, словно крупа. Он засыпал наши следы, наши плечи, шапки, медленно, но, верно, превращая нас в часть этого каменного ландшафта.
Час пролетел в напряженном ожидании. Второй – в борьбе с холодом, который начал подбираться к телу коварными струйками, проникая под одежду и цепкими когтями хватаясь за кости. Мы не шевелились, боялись спугнуть возможную добычу.
И вот, спустя два часа полного безмолвия, Михаил тихо, почти неслышно выдохнул:
– Всё. Фарта нет нынче тут нам.
Он не ругался, не злился. В его голосе была спокойная, почти философская констатация факта. Таежный закон прост: бывают дни щедрые, а бывают – пустые. Сегодняшний явно принадлежал к последним.
Мы выползли из-за камней, с трудом разминая затекшие, одеревеневшие ноги. Голод, до этого отодвинутый азартом охоты, набросился на нас с новой силой, напоминая о себе нытьем в желудке.
– А кушать-то хочется всегда, – буркнул я, отряхивая снег.
– Это уж точно, – хрипло рассмеялся Михаил. – Пойдем, греться. Наши сухари с чаем еще никого не подводили.
И мы побрели обратно к одинокому огоньку в окошке нашего зимовья, оставляя за спиной темноту реки, тихо падающий снег и пустой, но такой манящий уступ.
Утро было до рези в глазах белым и оглушительно тихим. Снег, словно толстый ватный саван, поглотил все звуки, оставив лишь звонкую тишину морозного воздуха. Вышли поздно, и сразу стало ясно: тропить предстоит заново. Ночной снегопад безжалостно засыпал нашу вчерашнюю лыжню, и теперь каждый шаг вперёд давался с боем. Лыжи проваливались в рыхлую, нетронутую целину, и мы, словно муравьи в сахарной куче, медленно и упорно пробивали себе дорогу сквозь эту белоснежную тюрьму.
К обеду, изможденные, мы выползли из чащи леса. У самого края, возле одинокого сухого бревна, будто специально оставленного нам в утешение, Саша, наш старший, хрипло бросил:
–Всё. Ночуем здесь. Дальше – никак.
Никто не возразил. Мы выбились из сил настолько, что даже мысли о горячей пище не вызывали энтузиазма – только тягучее, свинцовое желание остановиться.
Следующее утро впилось в память острым, колючим холодом. Термометр, привязанный к рюкзаку, безучастно показывал минус тридцать. Дышать было больно, воздух обжигал лёгкие.
–Завтракать не будем, – заявил Саша, его борода была покрыта инеем, делая его похожим на деда-мороза-первопроходца. – Съедим по плитке шоколада в пути. Чем быстрее возьмём перевал, тем лучше.
Снова тропёжка, снова изнурительная борьба с сугробами. Казалось, этому не будет конца. Но вот, в последних багровых лучах уходящего солнца, мы, наконец, залезли на Бепкан. Голодные, уставшие до состояния полной прострации, мы тем не менее чувствовали себя победителями. Счастье, дикое и первобытное, захлестнуло нас – мы вырвались из этих уморительных снежных объятий!
– Ну что, орлы? – крикнул кто-то сзади. – Сигаем?
Спускаться на лыжах пришлось почти с самого гребня, при свете уже взошедшей луны. Она висела в черном небе холодным, бездушным диском, заливая склон призрачным, обманчивым светом. Лететь в эту молчаливую темноту было жутковато.
– Давайте орать! – предложил я, и голос мой прозвучал неожиданно громко в ночной тишине. – Как в прошлом году на Саяне!
Этот проверенный способ— громкий, дурацкий крик – разгонял не только страх, но и ледяную корку на душе. И мы понеслись вниз, оглашая ночь дикими воплями, смехом и призывами к невидимым богам гор.
Выехали к озеру. Оно лежало внизу, огромное и неподвижное, как полированный кусок антрацита, кое-где блестящий отражением луны.
– Ночевать тут, – указал Саша на морену – нагромождение древних валунов. – В «холодную».
В туристском лексиконе «холодная» ночёвка – это не просто без костра. Это вообще без всего. Это вообще самая ж… ЖЕСТЬ!
Термометр, который мы воткнули в снег, выдавал просто фантастические цифры: минус тридцать пять. Казалось, даже звёзды на небе замерзали и звенели, как хрустальные колокольчики.
–Ну, друзья, – с натянутой бодростью в голосе сказал я, – настало время для нашего спасения. – И с торжественным видом извлёк из глубины рюкзака рулон спасательной фольги.
Мы кое-как соорудили из палатки подобие укрытия, которое ветер тут же принялся яростно трепать, превращая её в бесполезную декорацию. Закутавшись в шуршащие, холодные одеяла, мы попытались заснуть, не снимая промёрзших насквозь ботинок – сил на их снятие уже не оставалось.
И вот, лёжа в этом «коконе», я вдруг с абсолютной, кристальной ясностью осознал: если я сейчас засну, то завтра не наступит никогда. Фольга не грела, она лишь медленно и равнодушно возвращала назад моё собственное, ускользающее тепло. Это было похоже на погребение заживо в металлическом саване.
– Ребята, – хрипло сказал я, – так мы замерзнем. Надо двигаться.
Решение созрело мгновенно. Мы выползли из жалкого укрытия на леденящий ветер.
– Давайте бегать! – предложила Миша, его зубы выбивали дробь.
И началось. Ночные догонялки вокруг трепещущей на ветру палатки. Потом борьба, как у нанайских мальчиков, – просто чтобы хоть как-то поколотить друг друга и согреться. Отжимания на колючем снегу. Прыжки «до луны», когда ты подпрыгиваешь изо всех сил, пытаясь достать до холодного диска. Тункинские танцы в присядку, от которых сводило мышцы бёдер.
Мы были похожи на компанию сумасшедших, устроивших шабаш на краю света.
Кто-то, уже отчаявшись, попытался разжечь костер из сухой травы и чахлых кустиков, найденных под снегом. Он вспыхнул ярким, но коротким пожаром, дав нам несколько драгоценных глотков кипятка. «На брата!» – и три глотка обжигающей жидкости казались нектаром богов. А потом Сергей извлёк плоскую флягу.
–Для форс-мажора, – ухмыльнулся он в усы. – По-моему, это он и есть.
Пятьдесят граммов «спиртяги» на каждого стали не алкоголем, а жидким огнём, растёкшимся по жилам.
Это была фееричная ночь. Ночь, когда мы, побеждая холод и усталость, играли с самой смертью в догонялки, и выиграли. И когда на востоке показалась первая бледная полоска зари, мы, изможденные, но согревшиеся изнутри, снова залезли в свои фольгированные коконы и уснули как убитые, чтобы встретить наступившее, вопреки всем прогнозам, утро.
Февральские Саяны дышали ледяным безмолвием. Ночь, казалось, вмерзла в скалы, и только первый багровый луч солнца, разрезавший синеву, начал понемногу отскребать её ото льда. Я выполз из палатки, и морозный воздух обжёг лёгкие как огонь. Этот утренний моцион был не прихотью, а необходимостью – попыткой растрясти окоченевшие после вчерашней битвы с холодом мышцы. Мы с Мишей и Сашей назвали тот кошмарный марьяж у чахлого костра «ночным концертом выживания».
Именно тогда, бредя по хрустящему насту у ручья, я увидел это. На большом, поросшем лишайником валуне, плоском, как жертвенный алтарь, лежал необычный предмет. Солнечный луч выхватил из тени золотистый блик. Я подошёл ближе, не веря глазам. Карманные часы. Старинные, с отполированной временем крышечкой на тонкой цепочке. Я поднял их. Серебро было ледяным, почти прилипало к коже, но в нём чувствовалась странная, живая энергия. Я дрожащими от холода пальцами нажал на крошечную кнопку. Крышка отскочила с тихим щелчком, открывая под стеклом циферблат с тонкими стрелками, которые упрямо отсчитывали время здесь, в самом сердце спящей зимней страны.
«Не может быть, – выдохнул я, и моё дыхание превратилось в густое облако пара. – Этого не может быть».
Из палатки, кутаясь в спальник как в плащ, выбрался Миша. Лицо его было серым от усталости и мороза.
«Чё замер? Опять медведя увидел?» – прохрипел он.
Я молча протянул ему находку. Он снял толстую варежку, взял часы, повертел в руках. Его глаза расширились от изумления.
«Ничего себе…Горы, понимаешь, в долгу не остаются. Наш вчерашний концерт оценили. Прямо дар духов!»
Мы стояли, молча любуясь, как солнце поднимается выше, заливая ослепительно-белое безмолвие рубиновым и золотым светом. И в этом новом свете я увидел то, чего мы вчера, в слепящей метели и ночной панике, просто не разглядели. Метрах в ста, у подножия скалы, стояли странные белые бугры. Слишком правильные, слишком геометричные, чтобы быть просто снежными сугробами.
«Саш, смотри, – ткнул я пальцем в ту сторону. – Эти сугробы… они что, все одинаковые?»
Он присмотрелся, щурясь на солнце.
«Похоже на какие-то кубы. Не иначе, инопланетяне тут базу построили. Пошли, проверим».
Мы побрели по глубокому снегу, утопая по колено. Сначала нехотя, потом быстрее, а под конец, забыв про усталость, почти бежали, задыхаясь и падая в рыхлую целину. Чем ближе мы подходили, тем невероятнее становилась картина. Это не были сугробы.
«Да это же домики! – первый крикнул Миша, сдирая с одной «глыбы» толстую корку снежного наста и обнажая белую пенопластовую стену. – Пенопласт, брус… Собраны, как конструктор!»
Ощущение было сюрреалистичным. Вокруг на километры – дикая, замёрзшая тайга, а здесь, будто марсианская база, стояли несколько укрытий, занесённых снегом по самую крышу.
«Так значит… – я медленно обернулся, окидывая взглядом нашу вчерашнюю стоянку, отмеченную лишь почерневшим пятном кострища. – Мы всю ночь тут ползали, дрожали как осиновые листы, а спасительное укрытие было в двух шагах?»
Миша уже откапывал вход и с силой толкал единственную деревянную дверь. Та поддалась со скрипом, выплюнув в лицо облако инея. Внутри пахло холодным деревом и остывшей печкой. Луч фонарика выхватил из мрака нары, застланные старым брезентом, а в углу…
«Святое место! – завопил Миша, и его голос эхом разнёсся по маленькому помещению. – Гляди!»
В луче света стоял зелёный газовый баллон, к нему – компактная горелка. Рядом, аккуратно сложенные в армейском ящике, лежал НЗ: пачка гречки, пакет с сухим молоком, несколько пачек соли.
«Гречка… – с благоговением произнёс я. – Настоящая, не разварная каша из пакета».
«Молоко! – подхватил Миша, уже откручивая баллон. – Сейчас, брат, я тебя такой гречей по-флотски угощу, что духи Саян позавидуют!»
Через полчаса в домике пахло счастьем. На горелке шипел и булькал самый ароматный в мире котёл. Мы сидели на нарах, грели руки о кружки с чаем и смеялись, глядя в заиндевевшее окошко на то место, где всего несколько часов назад отчаянно боролись за тепло.
«Пир горой, – сказал Саша, с аппетитом зачерпывая дымящуюся кашу. – Буквально».
Я кивнул, доставая из кармана часы. Крышка щёлкнула, открывая циферблат. Стрелки тихо шли вперёд. Они отсчитывали уже не просто время. Они отсчитывали новую историю – историю о том, как самые тяжёлые февральские ночи могут закончиться самым щедрым утром, а духи гор в долгу не остаются. Особенно если ты подарил им свой лучший концерт.
Последние метры перед перевалом «Динозавр» выматывали окончательно. Лыжи тонули в целине, проваливались в глубокий снег. Каждый шаг давался с боем. Когда мы наконец выбрались на гребень, Саша, наш неисправимый оптимист, обернулся, еле переводя дух:
– Ну всё, детки… «Динозавр» сдох! Теперь только вниз…
Мы плюхнулись в снег без сил. Достали последние припасы – помятую пачку гречки и пакет сухого молока.
– Выглядит как паёк заблудившегося полярника, – хрипло усмехнулся я, разводя в котелке комковатую смесь.
– Зато своё, – философски заметил Миша. – Ешь, а то на Баруне сил понадобится.
Название «Барун-Хандагай» уже вызывало суеверный трепет. Начали спуск. Ноги постоянно проваливались в снег, то и дело приходилось вытаскивать их из снежной массы.
– Так, запомните! – крикнул Саша, когда мы приблизились к руслу реки. – Отныне «Барун» означает «полный, бесповоротный пипец»!
Река, скованная льдом, с чёрными промоинами, будто подтверждала это. Мы шли по краю обрыва, где снежные карнизы нависали над бездной.
– Осторожно! Слева провал! – крикнул кто-то сзади.
– Вижу! – буркнул я, с трудом удерживая равновесие.
Барун-Хандагай была прекрасна в своём зимнем безумии. Снежные стены ущелья вздымались на несколько метров, создавая ощущение движения по дну гигантского белого коридора.
Именно здесь я почувствовал первый укол. Сначала – лёгкая тошнота.
«Пройдет», – подумал я.
Но потом в глазах поплыли чёрные точки. Сначала редкие, потом чаще.
– Эй, ты как? – крикнул Саша, заметив, что я отстаю.
– Да нормально! – соврал я. – Просто любуюсь видами!
Я изо всех сил старался идти, стиснув зубы. «Крепись», – твердил себе.
Но к моменту выхода на дорогу в Аршан мир плыл перед глазами. Я шёл, автоматически переставляя лыжи. Чёрные точки сливались в пелену. Стемнело.
Вдали послышался гул. Свет фар выхватил из темноты нашу группу.
– Лесовоз! – кто-то крикнул с надеждой.
– До Аршана? – Миша постучал в стекло кабины.
– Садитесь!
Меня, как самого ослабшего, втиснули в кабину. Пахло махоркой.
– Держись, братан, – хлопнул меня по плечу водитель.
В санатории «Аршан» сторож, пожилой бурят, без слов отпер дверь.
– Ты плох, парень, – сказал он, глядя на меня. Дал горсть таблеток. – Выпей и спи.
Я рухнул на койку и провалился в забытье.
Дорогу в Иркутск помню обрывками. Автовокзал. Поезд. Боль в боку.
В Иркутске еле добрался до квартиры. Сделал шаг – и боль скрутила так, что упал на пол.
– Скорую… – просипел я.
Помню яркий свет, руки врача.
– Аппендицит. На стол.
Я проваливался в пустоту, теплую и беззвучную, будто в спальнике на рыхлом снегу. Последним, что я услышал, был добрый, убаюкивающий голос: «Ну, горный турист, спи. Всё будет хорошо».
Очнулся я от резкого больничного света. В палате пахло лекарствами и едкой жидкостью для мытья полов. За ширмой послышались знакомые голоса.
– Ну и видок же у студента политеха, – говорила одна из тех самых практиканток. – Я думала, мы ему не аппендицит вырезать, а обморожение лечить будем. Весь в багрово-синих пятнах.
– Да уж, – вторила ей вторая. – Но он же, представляешь, перед самым наркозом главное своё звание назвал. Не имя, не фамилию – «горный турист из Политеха». Гордо так.
Наступила пауза.
– А ведь, наверное, они там, на этих ваших Шумаках, настоящие герои, – первый голос прозвучал уже без тени насмешки. – Мороз, голод… А он ни слова жалобы.
– Не герои, – вдруг послышался спокойный голос анестезиолога. – Они просто другие. Они знают цену теплу, потому что видели настоящий холод. И цену еде, потому что грызли сухарь последний. Спит сейчас, а губами шевелит, наверное, маршрут свой про себя прокладывает.