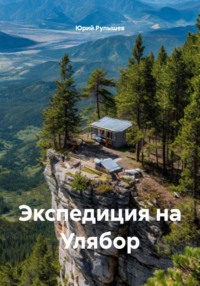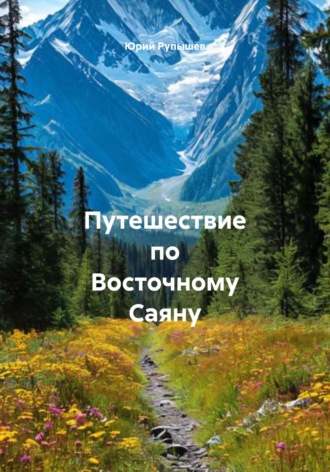
Полная версия
Путешествие по Восточному Саяну
И вот наш круг, который уже было сомкнулся, снова разомкнут. В последний вечер пути он принял в себя новых людей, готовых делиться своими историями под бесшумный бег реки и треск поленьев.
Ночь в Слюдянке была густой и звёздной, но её уютная магия уже растворялась в предрассветной прохладе. Вдалеке, во тьме, прорезаемой лишь редкими огнями сонного городка, показались два ярких ока. Они росли, приближаясь, и вскоре глухой гул превратился в нарастающий грохот колес. Это был наш поезд, тот самый, что должен был унести нас из Сибири обратно в Екатеринбург.
– Ну, вот и он, – вздохнула Оля, кутаясь в тонкую куртку.
Прощание было тёплым, стремительным и немного горьким. Мы стояли на перроне, и три недели, прожитые как одно мгновение в тайге, у Байкала, на горных перевалах, сжались в эти несколько минут.
– Так, фотки не забывайте высылать, как только будет связь! – напомнил Дима, обнимая меня за плечи. – А то вы там в своём плацкарте про всё забудете.
– Обещаем! Первым делом! – засмеялся я. – Вы там в Иркутск не опоздайте на самолёт.
– До Ростова рукой подать, – отмахнулась Оля. – А вы… вы берегите себя. Екатеринбург встретит не ласково, чувствую я.
Последние рукопожатия, последние улыбки. Громкий гудок прозвучал как окончательная точка в нашем приключении. Мы с Демидом забрались в вагон, тяжело взваливая на плечи свои, теперь казавшиеся невероятно тяжёлыми, рюкзаки. Двери с шипением закрылись, и через мгновение за стеклом проплыли силуэты двух наших друзей, машущих нам вслед.
Плацкарт встретил нас знакомым коктейлем запахов: пыльные полки, чай, печенье и металл. Мы молча рассредоточились по своим полкам. Предвкушение, что гнало нас вперёд три недели назад, исчезло без следа, оставив после себя приятную, но томительную усталость. Впереди были трое суток пути и возвращение в другую жизнь.
– Скучно как-то, – констатировал Демид, глядя на мелькающие за окном тени. —Это потому, что ты всё уже отснял, обрабатывать нечего, – пошутил я. —Как раз обрабатывать. Или почитать хоть что-то, кроме надписей на вокзалах.
Он полез в свой рюкзак и вытащил потрёпанный томик. На обложке значилось: З. Фрейд. «Я и Оно. Недовольство культурой».
– Вот, укрепляй психику после единения с природой, – он протянул мне книгу. – Как раз поймёшь, почему тебе так не хочется обратно в цивилизацию.
Я взял книгу. Контраст был поразительным: всего несколько часов назад мы пили чай у костра, глядя на бескрайнюю гладь Байкала, а теперь пытались погрузиться в дебри психоанализа. Стук колёс стал саундтреком к размышлениям Фрейда о природе человеческого страдания. Ирония была настолько очевидной, что я не мог не улыбнуться.
Три дня пути слились в одно монотонное воспоминание: бесконечные тоннели за окном, стук колёс, разговоры с попутчиками о маршруте, запах растворимой лапши и тот самый томик, страницы которого листались всё медленнее по мере приближения к дому.
И вот он, финал нашего путешествия. Поезд затормозил с протяжным скрежетом рано утром 31 августа. За стеклом был Екатеринбург – мокрый, сонный и серый. Холодный осенний дождь заунывно барабанил по крыше вагона. Именно здесь, на перроне родного города, мы наконец-то достали из гермомешков те самые тёплые вещи – толстые свитера и куртки, – которые за все три недели скитаний ни разу не пригодились. Они пахли домом.
На вокзальной площади, под ледяными струями дождя, мы и распрощались с Демидом. Быстро, по-мужски, потому что продлевать эту минуту расставания не хотелось.
– Ну, всё. Созвонимся. —Ага. Фотки… —Обязательно. Следующий поход планируем? —Обязательно!
Он помахал рукой и нырнул в такси. Я остался один под дождём. Ещё одна машина, короткая поездка по знакомым, но почему-то чужим улицам, подъезд, пахнущий затхлостью и чужими обедами.
Я долго стоял перед своей дверью, с непривычки роясь в карманах в поисках ключей. Наконец, металлический прутик с зубчиками нашёлся на самом дне. Звук, который я позабыл за эти недели, – сухое, одинокое шкрябание ключа в замочной скважине – показался невероятно громким.
Дверь открылась. В квартире пахло тишиной и домашним уютом. И тут же, из глубины коридора, донёсся ахающий, самый родной голос: – Боже мой! И кто это к нам пожаловал? Какой же ты бородатый!
Глава 5
Глава 9
На машине времени в Шумак – 80-е
Зимний вечер затягивал окна кухни в густую, бархатную синеву. За стеклом, подернутым морозными узорами, тихо падал снег, а в комнате было тепло и уютно от пара, поднимавшегося с картошки на столе. Батя, попивая чай, смотрел куда-то вглубь себя, в те уголки памяти, куда обычно не заглядываешь в суете будней. Я молчал, чувствуя, что он хочет что-то сказать.
– Вот, смотрю на этот снег, – начал он, будто разгадывая мои мысли, – и вспомнилась мне одна история. От фронтовиков слышал, еще от старших товарищей. Про лютые морозы.
Он отпил глоток, поставил кружку с легким стуком.
– Представь: зима, под сорок, а то и ниже. Ветер, что ножом режет. А у тебя – ни палатки теплой, ни спальника пухового. Одна шинелька да землянка, в которой дует со всех щелей. Так вот, находили они способ выжить. Способ почти магический.
Я замер, перестав даже есть.
– Брали они, – голос отца стал тише, доверительнее, – обычную фольгу, заворачивались в нее, как в кокон, прямо на голое тело, под форму. А потом… потом шли и ныряли в сугроб. В самый глубокий, нетронутый.
– В сугроб? – не удержался я. – Но это же верная смерть!
– Так и я думал. А оказалось – гениально. Фольга тело тепло не выпускает. А снег – он как одеяло. Ледяное, да, но одеяло. Она, эта фольга, твое собственное тепло вокруг тебя и держит. И спишь ты, вроде как в ледяной гробнице, а тебе тепло. Собственным дыханием, собственным жаром согреваешься. В этом сугробе тишина такая, что в ушах звенит. И спишь. Выживали.
Он умолк, и в тишине кухни эта история отозвалась во мне чем-то щемящим и странным. Не просто фронтовой байкой, а какой-то глубокой метафорой. Как будто эти солдаты заворачивались не в фольгу, а в последнюю, тончайшую надежду. И ныряли не в снег, а в самое нутро стужи, чтобы обмануть ее, пересилить своим маленьким человеческим теплом.
А на следующий день, в перерыве между парами в Политехе, эта мысль все еще крутилась в голове. Место нашей ежедневной дислокации с иронией называлось «Водопой». Почему – до конца никто не знал. То ли из-за длинной, как удав, батареи отопления, возле которой мы толпились, словно замерзшие животные у источника жизни, то ли Толя, наш неформальный лидер, когда-то обмолвился этим словом, и оно прижилось. Так и повелось: «Встречаемся на Водопое».
«Водопой» в эти дни был особенным. Ближе к февралю студенческая масса, обычно аморфная, начинала структурироваться. Уже не просто знакомые, а будущие попутчики собирались в тесные кружки, чертили на салфетках карты, спорили о маршрутах. Воздух звенел от возбуждения и предвкушения. Мы, как те солдаты отца, готовились к своему походу, к своему испытанию.
Мои товарищи, Сашка и Мишка, уже нарисовали простецкий, как они выразились, маршрут. Сашка, разложив на подоконнике замусоленную карту, тыкал в нее пальцем с обгрызенным ногтем.
– Смотри, гений просто: начинаем с Ниловки, пешком до Шумакских источников. Там погреем косточки. Потом – налегке на перевал Долгожданный. С него – красота!
– А почему «Долгожданный»? – спросил я.
– Потому что до него идешь, идешь, и он тебе уже снится, – философски заметил Мишка, начищая о штаны объектив своего «Зенита». – А дальше – Бепкан, Динозавр… и финиш в Аршане. Как сливки с торта.
Я смотрел на извилистую красную линию, пересекающую хребты и долины Саян, и думал о фольге. О том, что наше тепло – не только физическое. Что мы, заворачиваясь в свою дружбу, в это общее безумие с рюкзаками и ледорубами, ныряем в холод неизвестности. И именно наше внутреннее горение, наша общая «фольга» должна была согреть нас в этом путешествии. Согреть куда лучше любой батареи в «Водопое».
Дым сигарет, как мы не старались курить в форточку, проникал в нашу общежитскую комнатушку. Под столом заваленном картами, пряталась бутылка «Агдама» – не для веселья, а для настроения. Зима в том году выдалась лютая, и именно эта лютость и рождала самые безумные планы.
– Семь дней, – уверенно сказал Михаил, тыча пальцем в изгиб хребта на самодельной кальке. – На все про все. Быстрый выход, заброска в центр ущелья, три дня на охоту и такой же быстрый возврат.
Я посмотрел на рюкзак в углу, наскоро сбитый из брезента. Он выглядел подозрительно тощим.
– Миша, ты же не забыл, что на дворе февраль? Минус двадцать за бортом – это ещё цветочки.
– А мы возьмём летнюю палатку! – с вызовом бросил он, и его глаза блеснули озорными огоньками. – И примус оставим дома. Тяжелый, вонючий. Будем на кострах. Это же романтика!
Вспомнились наши прошлые зимы: бесконечная возня с примусом на морозе, когда пальцы коченеют, а он всё никак не хотел разгореться; ледяной конденсат на потолке палатки, осыпающийся за шиворот при каждом движении. Идея с костром казалась раем.
– Ладно, палатка, ладно, костёр, – сдался я. – Но еда? Семь дней тащить тушёнку и крупу? Это же гири, а не рюкзаки получится.
Тут в разговор вступил Саша, самый молчаливый и практичный из нас. Он молча достал из-под кровати чехол с гладким, масленым деревянным прикладом.
– Вместо еды – ружьё, – произнёс он, как отрезал. – Продуктов – на два дня. На заход и выход. А там… – он многозначительно хлопнул по затвору, – …там дичь найдём. Без вариантов.
Наступила тишина. Идея была одновременно и блестящей, и безумной. В ней была первобытная, мужская логика, против которой не попрёшь. Охотник кормит себя сам. Это было решение не туристов, а пионеров, покоряющих дикие земли.
– Значит, так, – начал я, уже загораясь. – Сухари, соль, спички. Чай. И всё?
– И всё, – подтвердил Михаил. – Перевалы по карте пологие, снега хоть и много, но лазить никуда не придётся. Верёвки, железяки эти все – лишний вес.
К вопросу тепла подошли с той же брутальной простотой. О пуховых спальниках, которые уже вовсю появлялись у заезжих альпинистов, мы знали лишь понаслышке. Зато мы были мастерами на все руки. Кто-то предложил: «А давайте сошьём три спальника из байковых одеял? Стеганые, тёплые!»
Так и сделали. Наше снаряжение было спартанским до абсурда: легкомысленная палатка, двустволка вместо продовольственного склада и три стёганых мешка, больше похожих на садовые матрасы. Глядя на эту кучу добра, мы чувствовали себя не бледными студентами, а настоящими романтиками, доказывающими, что главное – не снаряжение, а дух. Мы были уверены, что горы оценят нашу авантюрную смелость.
Февраль в Саянах – это не календарная зима. Это обещание. Обещание первого по-настоящему яркого солнца, которое уже не просто светит, а греет щёки до лёгкого загара. И самое главное – это идеальный наст. Тот самый, крепкий, подбитый снизу инеем, когда на лыжах летишь, словно на крыльях, в любом направлении, не проваливаясь и не думая о бесконечной тропёжке. Мы, пахнущие машинным маслом и чертёжной пылью парни из Политеха, ждали этого момента весь январь.
Дух захватывало уже на подъезде. Наш видавший виды УАЗ с трудом вздымался по серпантину. За окном мелькали то ослепительно-белые склоны, то тёмные провалы ущелий.
Первое испытание, или, как мы сразу окрестили, «казус», случился по дороге в Ниловку. Водитель нашего автомобиля, дядька Степан, за рулём которого мы чувствовали себя в безопасности ещё с первокурсных вылазок, на сей раз явно переоценил свои силы. На одном из затяжных, почти километровых спусков, где дорогу с одной стороны обнимала скала, а с другой зияла пустота, я заметил странную вещь: стрелка спидометра, вместо того чтобы дрожать на одном месте, начала плавно ползти вверх.
Я сидел сразу за кабиной. Сначала подумал – тормозит двигателем, так и надо. Но потом мельком глянул в узкое зеркальце, вмонтированное так, что водитель видел полсалона, а пассажиры – его. И увидел: голова Степана клонится к рулю мелкими, прерывистыми кивками. Его разморило.
– Ребята, – тихо, но чётко сказал я, обернувшись к Мише и Саше. – Кажется, наш штурман засыпает на боевом посту.
Михаил, всегда спокойный, с лицом, на котором редко можно было прочитать что-то кроме лёгкой иронии, поднял брови и тоже посмотрел в зеркало.
– Интересно, – произнёс он своим ровным, аналитическим голосом. – Сила трения качения против силы тяжести. Посмотрим, чья возьмёт.
– Что значит «посмотрим»?! – всплеснул руками Александр. Его живое, выразительное лицо моментально исказилось от беспокойства. – Да он нас в пропасть вывезет! Буди его!
«УАЗ» между тем набирал скорость. Ровный гул мотора перешёл в натужный рёв. Скала справа стала приближаться угрожающе быстро.
– Степан Иваныч! – негромко, но властно сказал Михаил, наклонившись вперёд. В его голосе не было паники, только твёрдая команда.
Водитель дёрнулся, поднял голову. На секунду в его глазах читалась пустота непонимания, а затем – холодный ужас. Он рванул руль от скалы, затем резко, но коротко ударил по тормозам. Машину немного повело, она вильнула, и с противным скрежетом по касательной чиркнула о скалу боком, высекая сноп искр. Но главное – чудовищного лобового столкновения удалось избежать. «УАЗ», фыркнув каким-то шипящим звуком из пневматики, дрожа всем кузовом, выровнялся и послушно потащился дальше.
В салоне на секунду воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь частым дыханием. Потом Александр выдохнул:
–. Ну вот! Политех в его лучших традициях! Решаем задачу, когда она уже падает на голову.
Михаил откинулся на спинку сиденья и усмехнулся:
–Задача решена. Коэффициент трения шин о грунтовую дорогу оказался достаточным. Или недостаточным для катастрофы. Смотря как посмотреть.
– Духи гор, – сказал я, глядя на пропасть за окном, в которую мы только что не рухнули. – Они нас явно ждали для других испытаний. Просто так не отпустили.
Александр фыркнул, но уже без злости, а с облегчением:
–Духи, говоришь? Может, они просто решили, что мы слишком скучно до гор едем? Решили добавить экшена.
Мы все трое рассмеялись. Тот смех, который бывает только после миновавшей опасности – нервный, счастливый, очищающий. Смех парней из Политеха, для которых любая проблема – это просто нерешённое уравнение. Правда, это уравнение могло бы закончиться куда трагичнее. Но тогда, под февральским солнцем, летя навстречу долгожданному насту, мы в это не верили. Казалось, что сама гора, приняв нашу машину, как пощёчину, лишь снисходительно усмехнулась и пропустила дальше. Настоящие испытания были впереди.
Последний подъем перед «летником» дался невероятно тяжело. Ноги, налитые свинцом, с трудом отталкивались от накатанной лыжни. Я пыхтел, как паровоз, и всем существом ощущал разницу между нашим снаряжением. Мои друзья – Михаил и Александр, опытные, бывалые – легко и ритмично шли на своих неказистых деревянных «туристах». А я, счастливый обладатель новеньких пластиковых «Бескидов», от которых все парни во дворе были без ума, то и дело проваливался на жестком насте. Эти легкие, казалось бы, лыжи вели себя как непослушные щенки, норовя уехать в сторону. Гордость за современный инвентарь потихоньку сменялась пониманием: здесь, в горах, важнее не «крутизна», а умение.
– Ну как, Лёня, еще жив? – обернулся Михаил, его лицо, обветренное и спокойное, светилось едва заметной ухмылкой.
– Еще немного осталось, держись, орленок! – добавил Александр, его бас разносился по вечернему лесу.
Я лишь махнул рукой, экономя воздух. Вот уже несколько минут до нас доносился запах дыма и вареной крупы – верный знак близкого привала. Наконец, сквозь пихтачи показались огоньки костра и силуэты палатки. Мы выкатились на небольшую поляну, где уже вовсю кипела жизнь. Старшие товарищи, пришедшие раньше, уже успели вскипятить чайник и сварить ужин.
Пока я, скинув рюкзак, валился на снег, пытаясь отдышаться, Михаил и Александр бодро направились к костру. Приятная усталость начала разливаться по телу, но тут до меня донеслись обрывки разговора.
– Ничего, дойдем до перевала, а там рукой подать до зимовья, – говорил чей-то голос.
–Это мы-то дойдем, – парировал Михаил. – А вот Лёньку на подъеме последнем еле живого видели. Не мучить же парня. Думаю, сегодня он уже не появится. Выбился полностью.
В груди что-то екнуло. Не злоба, а скорее жгучее, обидное чувство – меня списали со счетов, пока я тут, в двадцати метрах, боролся и все-таки дошел. Эта обида придала сил, которых, казалось, уже не осталось. Я вскочил на ноги, отряхнул снег с комбинезона и громко, чтобы слышали все, объявил, подходя к костру:
– Так что, товарищи бывалые, можете не сомневаться! Вы меня еще дождались! И завтра дойду, куда надо!
Наступила небольшая пауза. Затем Александр хмыкнул и протянул мне дымящуюся кружку:
–Ну, раз такие боевые, принимай ужин, герой. Гречневая с тушенкой. Завтра проверим твою решительность на Шумакском. Говорят, он крут.
Я взял кружку, и от тепла по рукам разлилось блаженство. Да, я был вымотан ужасно, каждая мышца ныла и протестовала. Но впервые за этот день я чувствовал себя не просто пацаном, который тащится сзади, а частью команды, в которой имею право на свой голос.
Позже, глядя на звездное, черное как смоль небо, мы строили планы на завтра. Следующий день готовил нам серьезное испытание – переход через Шумакский перевал. Но мысль о ночлеге в теплом, уютном зимовье на целебных источниках согревала сильнее костра. Там, в бревенчатых стенах, можно будет высушить одежду, отдохнуть и рассказать байки.
Но Саяны, суровые и величественные, имели на этот счет свои планы. Ночью я проснулся от пронизывающего холода. Даже в спальнике, закутавшись с головой, я чувствовал, как мороз сжимает палатку стальными тисками. Утром, вылезая наружу, мы увидели, что мир стал хрустальным. Иней толстым слоем лежал на палатке, деревьях, наших рюкзаках.
Первым делом Михаил достал из кармана рюкзака термометр. Мы столпились вокруг, глядя на тонкий столбик спирта, который опустился до самой нижней отметки шкалы.
– Минус тридцать семь, – без эмоций констатировал он, переглянувшись с Александром. – Весело.
Мы молча стояли, кутаясь в куртки, и наши дыхание превращалось в густые потоки пара. Я посмотрел на заснеженные хребты, розовеющие в лучах восходящего солнца. Они спали спокойным, ледяным сном, и до весны, кажется, им не было никакого дела. Похоже, Саяны и вправду не собирались сдаваться без боя. И наш переход обещал быть куда серьезнее, чем я представлял себе вчера у костра.
Воздух на высоте был холодным и колючим, как стекло. Каждый вдох обжигал легкие, а выдох превращался в клубящееся облачко, тут же заиндевевшей на вороте куртки. Движение на перевал давалось с трудом, граничащим с одержимостью: мы потели под слоями влажной от напряжения одежды и коченели снаружи, под ледяным дыханием гор. Мороз безжалостно рисовал алые пятна на наших щеках и носах, а ноги отяжелели, словно были налиты свинцом. Внутри меня, под этой маской усталого равнодушия, безутешно рыдал маленький мальчик, обессилевший и мечтающий о тепле.
Шли мы молча, экономя силы и слова. И вдруг – резкое движение впереди. Шурик, наш бессменный разведчик, замер и вскинул руку, сжав пальцы в кулак. Универсальный знак из всех боевиков, который мы окрестили «стрелка Задорнова»: «Тишина. Вижу цель».
Мы затаили дыхание, вжимаясь в снег. Сердце заколотилось где-то в горле, сметая усталость.
–Что? – выдохнул я, с трудом разжимая промерзшие губы.
–Вон… – беззвучно шевельнул губами Шурик, едва заметно кивнув вперед.
Я протер рукавицей лицо, пытаясь разглядеть сквозь бахрому ледяных ресниц и белую пелену поземки. Вначале я видел только камни, припорошенные снегом. И вдруг – движение! Небольшой, упитанный комок снега не скакал, а именно переваливался с боку на бок по каменистой осыпи, словно неспешный пешеход.
– ЕДА! – озарение ударило в мозг ярче солнечного луча. – Куропатка! Белая куропатка!
Это была она – желанная, упитанная, настоящая ходячая снедь. М-м-м, наваристый суп, жирный бульон… пальчики оближешь!
Миха, наш главный добытчик, уже скинул с плеч свой необъятный рюкзак. Металлические пряжки звякнули о камень, нарушая звенящую тишину.
– Тихо ты! – шикнул на него Шурик.
–Да я.… патроны… – Миха, красный от натуги и волнения, торопливо стал отвязывать чехол с ружьем.
Птица, словно почуяв неладное, насторожилась. Она перестала клевать мох и, неспешно переваливаясь на своих коротких лапках, начала отдаляться от нас вверх по склону.
– Миха, быстрее! – зашептал я, чувствуя, как драгоценная добыча ускользает. – Уходит!
Наконец, ружье было в его руках. Миха вскинул ствол, поймав в прорезь прицела белую, почти невидимую на снегу мишень. Куропатка, эта упитанная белая пышка, не бежала, а с достоинством удалялась, будто знала, что у нас нет ни единого шанса.
–Стреляй! Да стреляй же, черт возьми! – зашептали мы с Шуриком в унисон, заклиная.
Палец Михи потянулся к спусковому крючку. И в этот момент он замер. Плечи его вдруг обвисли, а сам он медленно, с непередаваемой горечью опустил ружье.
– Ну что? – не выдержал Шурик.
Миха обернулся к нам. На его лице была написана такая досада, что смешно не было.
– Патроны… – хрипло произнес он. – Черт… они же на дне рюкзака. Под всеми консервами.
Мы были молоды и даже ругаться толком не умели. Никакое крепкое слово не могло выразить ту бездонную пропасть разочарования, что зияла теперь в наших душах. Мы просто стояли и молча смотрели, как наш обед, неторопливо и величественно, исчезает в белой мгле.
Куропатка сделала последний прыжок на гребень скалы, на мгновение застыла на фоне блеклого неба, словно говоря нам свое тихое, победное «Эх!», и бесшумно растворилась в безмолвной пустоте заснеженных гор.
Тишина, наступившая после, была горше самого лютого мороза.
Эта куропатка стала для нас горьким уроком и пронзительной метафорой наших неудач. Мы стояли, подавленные, чувствуя, как ледяной ветер задувает последние искры надежды где-то глубоко внутри. Но отступать было некуда. Собрав волю в кулак, мы молча взвалили на плечи рюкзаки и, не глядя друг на друга, двинулись дальше вверх, к перевалу, который теперь казался не просто точкой на карте, а единственным спасением от полного отчаяния.
Подъем к перевалу – это не прогулка, а преодоление. Но вот мы на гребне, и солнце, пусть февральское, низкое, светило в спину удивительно тепло, припекая сквозь тонкий, кристально-чистый воздух. Оно уже не имело силы растопить наст под ногами, но его касание на щеках было подобно обещанию жизни. От этого контраста – ледяного ветра в лицо и теплых лучей на спине – кружилась голова. Наше настроение действительно парило на высоте этих самых 2700 метров, выхваченной из зимней стужи.
– Мороз-то, а солнышко пригревает! – крикнул Шурик, его голос терялся в безбрежной белизне. Его лицо, обветренное до брусничного цвета, расплылось в улыбке. – Как в сказке! Только вот боги мы замерзшие.
Мы стояли на перевале, и перед нами открывался мир, скованный льдом и снегом. Долина Шумака лежала внизу, как гигантская белая чаша, испещренная черными ниточками замерзших ручьев и припорошенными снегом кронами кедров. Душа, вопреки холоду, пела – пела тихую, сдержанную песнь зимнего пути. Мы почти бежали по натоптанной тропе, стремясь достичь источников до того, как короткий февральский день угаснет, уступив место пронзительной, звездной ночи.
Спуск был головокружительным. Лыжи шипели на морозном снегу, а с веток деревьев осыпалась алмазная пыль инея. Долина встретила нас не журчанием, а гробовой тишиной, нарушаемой лишь скрипом нашего шага. Знаменитые источники дымились на трескучем морозе густыми, молочно-белыми клубами, создавая сюрреалистичный пейзаж. Сотни маленьких каменных ванночек были обрамлены свисающими сосульками и снежными шапками.
– Ну, что, ищем тепло! – Сашка первым бросился к ближайшему срубу, из трубы которого, к нашей радости, не шел дым. – Осматриваем зимовья! Нам бы печку растопить да чаю согреть.
Наша «команда» из трех человек принялась за обследование. В те годы зимних туристов здесь почти не бывало. Мы обошли несколько избушек, заметенных по самые окна. Двери были занесены снегом, и нам пришлось откапывать их лопатами. Внутри пахло холодом, промерзлым деревом и мхом. Пусто. Лишь в одной, самой крупной, мы нашли следы недавней стоянки: охапку сыроватых дров и ржавую буржуйку.
– Хоть дрова есть, – констатировал я, с трудом снимая окоченевшими пальцами рюкзак. – А вот с провизией, я смотрю, туго.
Сашка, не теряя оптимизма, начал рыться в углах при свете фонаря. И вдруг азартно свистнул:
– Бинго! Смотри, что прошлые гости припрятали!
Из-под груды старых газет он извлек полиэтиленовый пакет. Внутри лежал сверток с вермишелью «Букет» – граммов триста, не больше. В феврале, в заснеженной долине, эта находка была дороже золота.