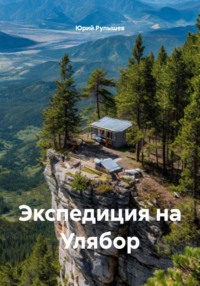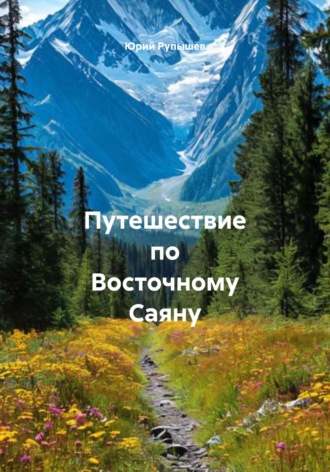
Полная версия
Путешествие по Восточному Саяну
Мы засмеялись, но купили по вафле. Он был прав. На фоне бесконечных просторов, высоких гор и ясного неба меркнут любые ценники. Остаётся только суть – простая и вечная, как шум реки за палаткой, в которую нам предстояло уложить последние вещи. Завтра – новый путь.
Прощание с Шумаком и ледяные объятия Нарин-Гола
Воздух на заре был густым и пьянящим хвоей, сырой землей и дымом от последнего, прощального костра. Настроение, вопреки грусти расставания с обжитым лагерем на Шумаке, было приподнятым, колким, как морозец у ручья. Дорога звала вперед – а это для странника всегда лучшая награда.
Мы шли бодро, и хотя рюкзаки за дни стоянки отяжелели от запасов и подарков здешних мест, плечи несли их легко. Тропа, утоптанная и гостеприимная, вела нас вдоль левого берега Шумака, мимо знакомых перекатов, где вода вечно спорила с камнями, и уютных полян, хранящих отпечатки наших палаток. Вскоре шумная речка смиренно влилась в более мощное, полноводное русло – это была река Нарин-Гол. Здесь всё и началось.
Без всяких предисловий, словно решив проверить нас на прочность, река повела в свои владения, втянув в узкие, извилистые объятия каньона. С первого же поворота он ошеломил своей дикой, нетронутой красотой. Скалы, отполированные водой и ветром до бархатного блеска, вздымались стенами цвета меди и охры, уходя в лазурную высь. Воздух гудел от низкого, утробного рокота воды, умножаясь эхом в каменных щелях. Тропа то взбиралась на опасные осыпи, заставляя цепляться пальцами за теплый камень, то решительно ныряла прямо в ледяную воду.
– Ну что, считаем броды? – крикнул Сергей, едва мы вылезли из первого, по колено, перехода. Вода стекала с его ботинок ручьями.
– Да тут их счёт потеряется! – рассмеялся я в ответ, еще не зная, что окажусь пророком.
Мы пересекали Нарин-Гол раз тридцать, а может, и все сорок. К полудню эти переходы превратились в своеобразный ритуал: найти устойчивый камень на входе, проверить палкой коварную глубину на стремнине, выбрать пологий выход на противоположном берегу. Мои верные «Karrimor», отслужившие не один сезон, на очередном выходе из воды издали подозрительный, предательский хлюп.
Я поднял ногу. Подошва на левом ботинке с непочтительной медлительностью отстала от основания, безвольно болтаясь, словно разинутый рот, с каждым шагом открывая взору внутренний мир моей обуви.
– Ну всё, – философски констатировал я, водружая ногу на камень. – Приказали долго жить. Прощай, цивилизация.
– Ничего, – подбодрил Андрей, роясь в рюкзаке. – Главное – чтобы ноги целы были, а обувь… вечером героически склеим на все винтики. У меня суперклей «Момент», он всё держит.
Было уже всё равно. Эти мелкие неурядицы лишь подчёркивали остроту ощущений, смакование пути. И в голове, в такт шагам, сам собой завелся простой, навязчивый мотивчик:
Сапоги, каждый весом по пуду, Нарин-гол, я тебя не забуду.
Примерно в середине дня каньон, словно смягчившись, преподнёс нам царский подарок. За очередным поворотом, из узкой расщелины, срывался водопад – не огромный, но невероятно изящный. Он ниспадал с шестиметрового уступа тонкой, пенной, сверкающей косой, разбиваясь о чёрные, отполированные валуны в миллиард алмазных брызг. Воздух звенел и вибрировал. Искупаться в таком месте было делом чести и духовной необходимости.
Разделись молча, под одобрительный грохот воды. Я вошел первым. Ледяная плена сжала голени, выжав из легких короткий, прерывистый вздох. Я перехватил взгляд Андрея – его лицо исказила гримаса дикого восторга, смешанная с шоком.
– О-о-о-ё-ёй! Мать моя женщина! – выдохнул он, басисто и комично. – Да тут аж кости сводит! Мозги леденеют!
– Зато потом как заново родишься! – закричал я, уже окунаясь с головой.
Вспышка белого, ослепляющего холода. Мир пропал, остался только всепоглощающий рев и лед. А потом – вынырнуть. Кожа гусиной кожей, кровь бежит быстрее, смывая всю усталость, всю дорожную пыль. Бодрящее, животное счастье.
После ледяного купели мы с волчьим аппетитом набросились на гречневую кашу с тушенкой. А после… после наступил момент полной, блаженной нирваны. Солнце припекало натруженные плечи, и почти вся группа вразнобой рассредоточилась на огромных, гладких, насквозь прогретых за день камнях, как ящерицы. Наступил «тихий час» – время абсолютной лени, когда не хочется ни о чём думать, а только лежать, слушая гул воды и вглядываясь в бездонное синее небо, зажатое между рыжими стенами каньона.
К пяти часам, отдохнувшие и просоленные, мы выползли из каменных объятий и начали подъем к перевалу Обзорному. Место для ночевки оказалось сказочным: ровная площадка, как будто специально приготовленная для нас, с панорамным видом на уходящие в сизую дымку хребты. А главное – мы обнаружили под ногами целую плантацию голубики! Казалось, будто кто-то специально рассадил эти низкие, приземистые кустики, усыпанные сизыми, в белёсой пыльце, бусинами. Голубика, по-моему, бесспорная царица Тункинских гольцов. И здесь её было немыслимо много. Мы ели её пригоршнями, срывая прямо с веточек, заваривали горсть с чаем – и скупые на щедроты горы в этот раз не скупились, отдавая всё сполна.
За весь наш переход, а это было около пятнадцати километров по владениям реки, мы не встретили ни одной живой души. Лишь под вечер, когда мы уже разбивали лагерь и доставали котелки, с тропы перевала спустились двое. Усталые, запыленные, но с тем сакральным огнем в глазах, который бывает только у путников в конце трудного дня.
– Здрасьте! – крикнул я им, поднимаясь от горелки. —Добрый вечер! – ответили они, скидывая рюкзаки с потертых плеч с облегчением. – Красиво у вас тут!
– Откуда идёте? —С Яман-Гола! – один из них, парень в красной бандане, вытер лоб. – Завтра вам туда, да? Готовьтесь, там… очень-очень много бродов. Прямо вообще. Не счесть.
Они шли на Шумак, и в их глазах читалась та же жажда открытий, что была у нас несколько дней назад. Мы, как старшие товарищи, предупредили их, что впереди, в каньоне Нарин-Гола, который они уже миновали, их ждёт бродов ничуть не меньше. Обменялись советами по лучшим стоянкам, пожелали друг другу удачи и, пополнив их запасы нашей голубикой, проводили взглядом вниз, в наступающие, сгущающиеся в ущелье сумерки.
Их рассказ заставил задуматься, глядя на уже мирно журчащую внизу реку. Нарин-Гол – не самый популярный маршрут в Тунке. Он не может похвастаться тёплыми озёрами или целительными источниками, как его сосед Шумак. Его красота строга, аскетична и требовательна. Она не дается просто так. Она награждает лишь тех, кто готов безропотно зайти в её ледяную воду снова и снова, заплатив за вход стучащими зубами и мокрыми ботинками.
Примечание для идущих этим путём: оба этих каньона – и Нарин-Гол, и Яман-Гол – проходимы и безопасны в сухую погоду. Но помните: горный нрав переменчив и коварен. Ливень в верховьях, которого вы даже не увидите, может в считанные часы превратить эти реки в неуправляемые, яростные, сокрушительные потоки, крушащие все планы и перекрывающие дороги. Обязательно закладывайте в маршрут запасные дни и всегда имейте на примете путь к отступлению. Горы не прощают легкомыслия, но щедро вознаграждают тех, кто подходит к ним с уважением и трепетом.
День рождения из шоколада и огня
6:30. Утро.
Звон будильника прорвался сквозь шелест палатки и однообразный гул реки. Шесть тридцать. Кажется, веки слиплись намертво, а от ночного холода кости ныли тихой, настойчивой музыкой. Первая мысль – к ботинкам. Вчера их вывернули наизнанку и поставили у камня, надеясь на милость горного солнца. Милости не случилось. Кожаные комки были холодными и влажными на ощупь, будто их только что вытащили из реки. Пришлось засовывать в них онемевшие ступни, стиснув зубы от противного, холодного соприкосновения. Ничего, отойдут на ходу.
Зарядка была короткой и яростной – серия резких движений, чтобы разогнать кровь и отогнать мошкару. Завтрак – овсянка с сухофруктами, которую на удивление удалось сварить почти до кремообразной консистенции. Кофе, густой как смола, завершил ритуал пробуждения. Через полчаса, стянув тугие лямки рюкзаков, уже шли к подножию перевала Обзорного.
Перевал Обзорный.
Вздымались вверх, отвоёвывая у крутого склона каждый метр. Дышали ртом, захватывая воздух, который с высотой становился всё тоньше и холоднее. Наконец, седловина перевала – и мир распахивался настежь. Казалось, видишь на сто километров вокруг: бесконечные хребты, уходящие в сизую дымку, как спины заснувших исполинов.
– Привал! – кто-то выдохнул, и рюкзаки с грохотом посыпались на камни.
Паша, ухмыльнувшись, полез в боковой карман своего походного ветхого рюкзака. Он извлёк на свет божий нечто, завёрнутое в потрёпанную фольгу. – Кому добра? – с пафосом протянул он свёрток. Это была та самая, легендарная шоколадка. Она повидала на своём веку всё: палящее солнце и ночные заморозки. Оттаивала и застывала раз пять, а может, и все десять. Теперь это был не плиточный батончик, а скорее шоколадный концентрат вселенской стойкости. Мы ломали её, как стекло, и она таяла во рту, отдавая не только какао, но и вкусом приключения, пройденных километров.
– Кстати, парни, – подал голос Дима, обводя всех взглядом. – А сегодня у Дениса день рождения!
Все повернулись к имениннику, который скромно потупился, разглядывая свои стоптанные бахилы. – Серьёзно? Поздравляем! —Вот это да! Здоровья, сил и чтоб до конца похода ноги не отвалились! —Ура! – крикнули хором.
– Тогда этот перевал – твой, Денис! – объявила Катя. – Берём его в твою честь!
Мы снова взвалили на себя рюкзаки, но теперь идти стало как-то веселее, с осознанием маленького праздника посреди большого пути.
Каньон Яман-гол.
Спуск привёл нас в царство воды и камня – каньон Яман-гол. Река здесь петляла, играя с нами в догонялки, то отступая, то преграждая путь холодными, быстрыми бродами. Вода, напитанная ледниковым сплавом, обжигала кожу даже через ткань штанов. – Ну и как? – спросил я у ребят, которые шли здесь раньше. – Да ерунда после Нарин-гола! – засмеялся Паша. – Там была настоящая борьба со стихией, а здесь – так, лёгкая разминка.
Шли ещё с десяток километров, и вдруг воздух изменился. В нём повеяло чем-то знакомым, терпким и серным. – Источники! – крикнул кто-то впереди. Мы вышли на поляну, откуда из-под земли били тёплые струйки, окрашивая камни в ржавые и изумрудные цвета. Это был последний привет с Шумака, прощальный подарок от тех мест.
– Остаёмся? – в голосе Лены слышалась надежда. – Место-то какое… теплое. Мысль была заманчивой: согреться в теплой воде, разбить лагерь здесь. Но что-то манило дальше.
– Давайте пройдём ещё немного, – предложил Дима. – Вдруг там, за поворотом, нас ждёт что-то ещё лучшее?
Неохотно, но согласились. И не зря. Пройдя ещё километра два, мы вышли на настоящую туристическую Мекку. Шикарный берег реки Ара-ошей: пологий, песчаный, с бирюзовой водой, бешено несущейся между валунов. Поляна, поросшая мягкой травой, была достаточно велика, чтобы расставить все наши палатки, не мешая друг другу. А главное – вокруг валялось море сухих плавниковых дров, выброшенных рекой во время паводка. И над всем этим, как декорация к сказке, возвышались острые пики Китойских гольцов, розовеющие в лучах заходящего солнца.
Вечер. Огонь и торт.
Лагерь встал быстро, с чувством глубокого удовлетворения. И тут началось главное. Девчонки с помощью Димы устроили на поваленном дереве целый кулинарный цех. Из галет, сгущёнки, орехов и сухого молока они сотворили чудо – настоящий походный торт, второй за всё путешествие. Это было произведение искусства, скреплённое не столько кремом, сколько общим энтузиазмом.
– Свечку надо! – объявила Лена. И тут же откуда-то из недр рюкзака, словно по мановению волшебной палочки, появился пыльный, но гордый чупа-чупс. Его воткнули на макушку торта. – Спички кто-нибудь охотничьи взял? Обычные отсырели. Нашелся и охотничий коробок. С треском чиркнули, зажгли длинную, могучую спичу. Её поднесли к чупа-чупсу, и он на мгновение стал самой нелепой и прекрасной свечой на свете. —Задувай! – крикнули все Денису. Он набрал воздух и задул наше импровизированное пламя. Аплодисменты смешались со смехом.
Пока не стемнело окончательно, мы, как муравьи, затаскали на поляну целую гору дров – про запас, для важного дела. Для огненных практик.
Очищение.
Для меня это был первый опыт. Я видел видео, слышал восторженные рассказы, но относился с прохладным скепсисом. Ну прыгну через костёр, ну постою на углях… Больно, наверное, и немного экстремально. В детстве все через костры прыгали, правда, поменьше.
Но когда ночь окончательно вступила в свои права, а наш костёр прогорел до кучи малиново-красных, раскалённых углей, всё стало восприниматься иначе. Это уже не было просто развлечением. Это был ритуал.
Дима лопатой разгрёб угли в ровную дорожку. Они светились изнутри, пышущие сухим жаром, от которого ерзало внутри. Первым пошёл он сам – быстрыми, уверенными шагами. Лицо его было спокойным и сосредоточенным. —Главное – не скорость, а уверенность. И шагать нужно, перекатывая ступню, – проинструктировал он.
Потом пошли другие. Кто-то шёл с закрытыми глазами, кто-то с воздетыми к небу руками. Когда подошла моя очередь, в голове не было ни страха, ни мыслей. Был только этот жар, бивший в лицо, и тёмное небо, усыпанное бриллиантами звёзд.
Я ступил.
И мир сузился до узкой тропки из огня. Не было ни боли, ни паники. Было только чистое, всепоглощающее ощущение стихии. Три шага – и я на другой стороне, смотрящий на свои неповреждённые ступни с чувством, которое сложно описать. Это была не гордость, а скорее благоговение. Ощущение, что тебя пропустили сквозь нечто великое и очищающее, проверили на прочность и признали достойным.
Прыжки через костёр казались уже детской забавой после этого. Мы носились и прыгали через языки пламени, которые лизали прохладный ночной воздух, оставляя за собой шлейф искр.
Подобное «очищение огнём» не испытать больше никак. Это древняя, первобытная сила, которая выжигает всё наносное, всю городскую шелуху, оставляя лишь суть – усталое, довольное и невероятно живое существо, которое смотрит на звёзды и чувствует себя частью этого огромного, дикого мира.
Это была по-настоящему сильная стихия. И мы, хоть и ненадолго, стали её частью.
Yuriy, [05.09.2025 11:56]
Конечно! Вот отредактированный текст, дополненный деталями, диалогами и превращенный в главу книги. Я постарался сохранить ваш стиль, но добавил атмосферы и глубины.
Днёвка на Китое
Солнце наконец-то взяло верх над утренней прохладой, растопив последние капли росы на палатках. Сегодня была днёвка – священный день отдыха для любого туриста, вымотанного переходами. После завтрака лагерь оживился: кто-то устроился с книгой на берегу быстрого Китая, кто-то, щурясь, подставлял лицо солнцу, а самые отважные плескались в ледяной, до костей пробирающей воде.
Я лежал на теплом валуне, глядя, как облака плывут в синей бездне неба, когда ко мне подошел Сашка Новиков. В его руках загадочно поблескивал полиэтиленовый пакет.
– Что лежишь как морж на камне? Грибов пойдем соберем, тут боровики – с кулак! – он хитро улыбнулся, и я не смог отказаться.
Для меня это было впервые. Не то чтобы я никогда не видел грибов, но поход за ними, настоящая тихая охота, – дело совершенно незнакомое. Тайга встретила нас прохладной, густой тенью и терпким ароматом хвои, влажной земли и чего-то неуловимого, грибного.
Саша шел впереди, его глаза, привыкшие к этому лесу, выхватывали из ковра из мха и папоротника то приземистый подберезовик, то рыжую шляпку рыжика. – Смотри, – он присел на корточки, аккуратно поворачивая в руках крепкий боровик. – Вот этот красавец – наш царь. Белый. Запомни: ножка толстая, будто бочонок, шляпка коричневая, снизу губка белая или желтоватая. Главное – не спутать с желчным. Тот горький, гадкий. Пощупай шляпку, чувствуешь, какая упругая? Я кивал, стараясь запомнить каждую деталь. Его рассказ был похож на древнее заклинание: «…а вот этот красавец – подосиновик, видишь, ножка в черную крапинку, будто в чулочках… А это лисички – они всегда кучками растут, как семья… Смотри, вон там поганка, запомни её юбочку и вульгарную яркость. Ядовитые часто кричат о себе цветом, а благородные – скромные, маскируются».
Мы разделились, договорившись выйти на зов. Оставшись один, я погрузился в почти медитативное состояние. Лес замолк, прислушиваясь ко мне. Каждый шорох, каждое пятнышко на земле обретало значение. Я ползал на корточках, радостно ахая при находке, и вскоре пакет начал предательски тяжелеть.
Через час мы встретились у ручья. Молча, с одинаково глупыми и довольными улыбками, мы показали друг другу свои трофеи. Два огромных, туго набитых пакета. Похоже, килограмм по пять в каждом.
– Ну что, Мишаня, – рассмеялся Саша, заглядывая в мой пакет, – для первого раза ты просто суперохотник! Теперь будем есть грибы до самого конца похода.
Он оказался прав, но в тот вечер мы еще не знали, что наш грибной урожай приведет к настоящему пресыщению. Уже на ужин, после гигантской сковороды жареных с картошкой боровиков, мы смотрели на грибы с тихим уважением, но и с легкой тоской. А до конца похода было еще далеко…
В самый разгар дня, когда лагерь погрузился в послеобеденную лень, к нам спустился незнакомец. Он появился бесшумно, но его тревога ощущалась почти физически, как статическое электричество. Мужчина лет сорока, с осунувшимся лицом и смятой в руке картой.
– Ребята, вы не встречали мальчика? – голос его срывался. – Сын… мы потерялись.
Он рассказал, что они сплавлялись по Китою, но катамаран на одном из порогов не выдержал, ударился о скалу и разбился. Чудом уцелев, но потеряв снаряжение, они – вчерашние водники – теперь пробирались по берегу с неподъемными рюкзаками, набитыми мокрым грузом. И где-то на этой тропе он потерял сына.
Мы тут же оживились. Кто-то подал ему чаю, а я и Саша, только что вернувшиеся из леса, стали объяснять: —Тропа идет вон за тем поворотом, видите, старая лиственница с обломанной верхушкой? – Саша водил пальцем по карте, а затем указывал на местность. – Минут сорок хода, и выйдете на поляну. Там развилка, вам – налево, вверх по склону. Не сворачивайте направо, там обрыв.
Мужчина, еще раз переспросив, кивнул, поблагодарил и почти побежал в указанном направлении, его фигура быстро растворилась в зеленой чаще.
Прошло полчаса. Мы уже начали тихо беспокоиться, как из-за тех же деревьев вышел другой путник. Парень, лет шестнадцати, усталый, с огромным рюкзаком за спиной. И – самое удивительное – он был вылитый тот мужчина, его юная копия, две капли воды.
– Здравствуйте, – с надеждой в голосе произнес он. – Вы моего отца не видели? С картой…
Мы переглянулись. Да уж, судьба порой не стесняется в эффектах. – Видели, видели! – хором ответили мы. – Он как раз о тебе спрашивал. Ушел полчаса назад! – И мы снова принялись объяснять маршрут, уже обжитый и знакомый.
Парень, с которого словно гора упала, улыбнулся, сгоряча пожал нам руки и зашагал по следам отца.
Лагерь затих. И тогда из глубины леса, из-за густой стены кедрача и пихт, до нас донеслось эхо. Сначала невнятное, потом все четче. Два голоса, мужской и юношеский, перекрикивались, взывая друг к другу.
– Паааап! – Сережаaaа! Я здесь!
Голоса то приближались, сливаясь в радостное возбуждение, то удалялись, подхваченные капризным горным эхом. Для нас, случайных зрителей, это был немой спектакль, целая драма с надеждой, страхом и долгожданной развязкой. Судя по тому, как крики наконец встретились и смолкли, отец с сыном воссоединились.
Вечером мы варили грибной суп. Его аромат смешивался с дымом костра и вечерней прохладой. Мы молчали, каждый думал о своем. О том, как легко потеряться и как важно вовремя встретить того, кто покажет верную тропу.
Глава 7
Глава 10
На машине времени в Шумак – 80-е (продолжение)
Всю ночь валил снег – густой, неторопливый, укутывая угрюмые склоны Тункинских гольцов в белоснежную, неестественно чистую пелену. Утро было не просто ясным; оно было искрящимся, почти бьющим в глаза. То ли вчерашнее спасение от пурги ещё согревало душу, то ли костёр, чадивший до самого рассвета, прогнал всю ночную жуть, но на душе было светло и спокойно. Всё вокруг – заиндевевшие пихты, сугробы, похожие на сахарные валуны, хрустальный воздух – было похоже на белоснежную сказку, и эта сказка звала вперёд, суля удачу.
Едва мы выбрались на ледяную гладь Билюты, обретшую, наконец, чёткие очертания реки, как тишину взорвал сухой треск кустов. Из заснеженной чащи выпорхнула, закружилась, пересвистываясь, огромная стая рябчиков. Их было штук сто, не меньше! Птицы, похожие на пёстрые, нахохленные комочки, с любопытством перепархивали с ветки на ветку, уставившись на нас чёрными бусинками глаз. Картина была настолько живой и мирной, что даже я на мгновение застыл, заворожённый.
– Ну, красота же! – прошептал я, поворачиваясь к Саше.
Но Миха уже не смотрел на красоту. Его взгляд стал острым, цепким. Без лишних слов он скинул рукавицы и привычным движением взвёл курки своего старого «ИЖ-54».
– Дробь какая, командир? – озабоченно спросил Саша, тут же превращаясь из созерцателя в «бывалого» охотника. – Пятёрка? Семёрка?
– Семёрка, – отрывисто бросил Миха, уже вкладывая патроны в стволы. – Для рябка в самый раз. Не разнесёт.
Они говорили о чём-то своём, о дробях и убойной дистанции, а я чувствовал себя лишним. Этот азарт, это мгновенное преображение друзей из усталых путников в добытчиков было мне чуждо. Миха приложил приклад к плечу. Грохот выстрела ударил по ушам и покатился по ущелью, отражаясь от скал жутким, многослойным эхом, которое, казалось, не умолкало целую вечность.
Один из рябчиков, ещё секунду назад суетливо копошившийся в снегу, резко дёрнулся и замер, окрашивая белизну алым пятном. Остальные с оглушительным хлопаньем крыльев взметнулись вверх и перелетели чуть выше по склону, снова затаившись в зарослях кустарника
– Есть! – удовлетворённо хмыкнул Миха и, повернувшись к нам, начал размашисто жестикулировать: – Ладно, хватит зевать! Становитесь загонщиками. Обходите склон справа и слева, поднимайтесь выше их. Как только поравняетесь – кричите, хлопайте в ладоши. Они взлетят, я тут как тут.
Мы молча, по глубокому снегу, полезли вверх. Я – справа, Саша – слева. Снег был по колено, каждый шаг давался с трудом. Добравшись до уровня, где, как мы предполагали, затаились птицы, мы переглянулись.
– А-а-а-у! – гаркнул я что есть мочи.
–Э-ге-гей! – подхватил Саша, колотя ладонью по стволу кедра.
И сразу же, как по команде, из-под самых ног с громким хлопаньем рванула вверх дюжина пёстрых крыльев. И в тот же миг – резкий, короткий выстрел внизу.
Но вместе с грохотом я услышал другое – тонкий, злобно-шипящий свист. Он пролетел буквально в сантиметрах от моего уха, и я физически ощутил, как смерть пронеслась мимо виска. Это был свист дроби. Я стоял прямо на линии огня.
Внутри всё похолодело. Азарт и спортивный интерес развеялись как дым, сменившись леденящим, животным ужасом. Охота в тот миг разонравилась мне навсегда.
Спускаясь вниз, я подошёл к Михе. Тот, довольный, подбирал вторую добычу.
– Ты стрелял прямо на нас! – голос мой дрожал от сдержанной ярости. – Дробь просвистела у меня над головой!
– Да ладно тебе, преувеличиваешь, – отмахнулся он, не глядя в глаза. – Я же видел, куда стреляю. Безопасно.
Больше спорить не было сил. Отворачиваясь, я твёрдо сказал:
– Я пойду тропить путь к реке. Искать зимовьё. Снега по колено, одна лыжня нам всем легче прокладывать.
Не слушая возражений, я двинулся вперёд, оставив их с добычей и ружьями. Ещё долго, пока я пробивал тяжёлую лыжню вниз по течению, до меня доносилось приглушённое, но оттого не менее противное эхо выстрелов, удалявшихся в гору. Каждый хлопок отдавался в сердце уколом.
Я пару раз проваливался по пояс, промочил ноги, но на морозе это было не страшно – замёрзшая штанина хрустела, как бумажная. Главное было – найти пристанище. Убежище. Место, где можно отдохнуть не только от холода, но и от этой внезапно проявившейся жестокости мира.
И ближе к сумеркам, когда синева уже начинала подкрадываться к снегам, я его нашёл. Неказистый, сложенный из толстых лиственничных плах сруб с низкой дверью и заледеневшим окошком. Надо отдать должное строителям этих убежищ в глухой таёжной глухомани – безымянным спасителям в ватниках и ушанках. Они, не ожидая ни славы, ни благодарности, спасли и ещё спасут немало таких же таёжных бродяг, как я. Для меня в тот день это была не просто избушка. Это была крепость. Тихая гавань, где можно было смыть с себя не только дорожную грязь, но и привкус свинца и крови, оставшийся на душе.