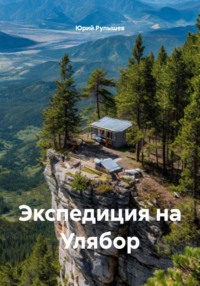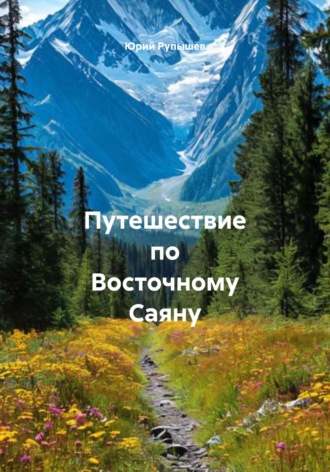
Полная версия
Путешествие по Восточному Саяну
Кирилл, сидя в стороне, с улыбкой наблюдал за этим действом. —Вот так всегда в походах, – философски заметил он, заваривая себе вторую кружку чая. – Днём – преодоление себя и гор, а вечером – маленькая жизнь у костра. Самое ценное.
Я подышал на кружку, втягивая непривычный, но приятный цветочно-травяной аромат сагаан-дали. Где-то в темноте шумел водопад, а над головой, пронзительно яркие в чистом горном воздухе, зажигались первые звезды. Несмотря на усталость в мышцах, на душе было непривычно светло и спокойно. Этот вечер, смех, боль в размятых плечах и тепло костра – ради таких моментов и идут в горы.
Дыхание Зун-Гольских вершин
Утро встретило нас хрустальной прохладой и острым запахом хвои. Сегодняшний день – первая радиалка, цель – Зун-Гольский перевал. Маршрут обещал быть серьёзным, но настроение у группы было приподнятым. Лишь одна тень омрачала сборы – наш бессменный запевала и душа компании, Лёха Гольцев, свалился с температурой. Вместе с ним в лагере остались ещё трое, приглядывая за ним. Перед выходом я заглянул в палатку.
– Ну как ты? – спросил я, протягивая ему кружку с горячим чаем. Лёха сипло кашлянул, пытаясь улыбнуться. – Да жив-здоров. Только вот, чёрт, такой вид пропускаю… Обещаешь, что будет на что посмотреть? —Обещаю, – твёрдо сказал я. – И фотографий принесём целую охапку. – Ладно. Идите, не задерживайтесь. Штурмуйте их, эти перевалы… – он махнул рукой и снова ушёл в спальник.
Мы выдвинулись на рассвете, когда первые лучи только золотили макушки кедров. Дорога сразу повела нас вглубь каньона, по дну одного из безымянных притоков Левого Шумака. Вода, ещё не прогретая солнцем, обжигала ледяным холодом. Пришлось сразу же форсировать шумные потоки – брод за бродом, их было штук пять, не меньше. Сапоги хлюпали, брюки липли к ногам, но это лишь добавляло азарта.
Каньон постепенно сужался, смыкаясь над нашими головами каменными стенами, поросшими мхом. Тропа исчезла, уступив место нагромождениям валунов и ледяному дыханию водопада, низвергавшегося где-то выше.
Паша, наш руководитель, остановился, окидывая взглядом непростой участок. Его смуглое лицо было серьезным. —Так, здесь не пройти. Камнепадный участок, видите? – он указал на свежие следы упавших камней. – Будем подниматься по стенке. Взгляд скользнул вверх по почти отвесному склону. Раздался негромкий вздох. – Серьёзно? – с некоторой тревогой в голосе спросила Катя, самая молодая участница похода. – Ничего страшного, – ободряюще улыбнулся Паша. – Смотрите, курумник держится крепко, а корни кедрового стланика – лучше любых перил. Главное – три точки опоры. По одному, страхуем друг друга.
И мы полезли. Камень был шершавым и надёжным под пальцами. Каждый шаг, каждое движение приходилось продумывать. Воздух наполнился тяжёлым дыханием и скрежетом подошв по граниту. К счастью, стенка была щедро усыпана кустами и цепкими деревцами, которые служили точками опоры. Словно сама тайга протягивала нам руки, помогая взобраться.
Сверху открылся потрясающий вид на ущелье, по которому мы шли всего час назад. Оно казалось теперь глубокой зелёной расщелиной, со дна которой доносился неумолчный грохот воды.
Дальше путь то взмывал на горные плато, то нырял в новые каньоны, где приходилось перепрыгивать с камня на камень под мелкой водяной пылью бесчисленных водопадов. А потом вдруг… вдруг земля ушла из-под ног. Вернее, она стала мягкой, пружинящей и невероятно нежной. Мы вышли в тундровую зону. Мох, цвета состаренной бронзы и изумруда, покрывал всё вокруг бесконечным ковром. Он поглощал шаги, делая путь беззвучным, а идти по нему было сплошным удовольствием – как ступать по перине.
– Ой, я, кажется, утону! – смеясь, воскликнула Валя, проваливаясь по щиколотку в упругую моховую подушку.
И вот, после очередного подъёма, перед нами открылось оно. Озеро. Его вода была такого насыщенного, густо-лазоревого цвета, что казалось – это не вода, а расплавленный сапфир, вылитый в чашу из серого камня. Оно лежало у самого подножия перевала, зажатое в объятиях скал, безмолвное и величественное. Восторженный шёпот пронёсся по группе.
– Ну как? – подойдя ко мне, тихо спросил Паша. – Виды того стоят? —Ещё бы, – выдохнул я. – Лёха бы оценил.
Часть группы, посмотрев на крутой подъем к перевалу, решила остаться у озера – загорать, медитировать и наслаждаться покоем. Мы же, самые азартные, двинулись на штурм. Вернее, на один из пиков, что возвышался справа от седловины перевала.
Подъем давался тяжело, сказывалась уже набранная за день высота. Но с каждым десятком метров открывались всё новые виды. И вот, достигнув гребня, мы ахнули: прямо под нами, в седловине между скал, пряталось второе озеро. Совершенно иное. Не сапфировое, а скорее бирюзовое, молочно-зелёное, словно в него насыпали тончайшей медной пыли. И откуда-то из-под камней, с глухим рокотом, доносился звук воды – два озера, верхнее и нижнее, были связаны невидимым подземным каналом.
А потом была вершина. Небольшая каменная площадка, обдуваемая всеми ветрами. Мы взобрались на неё, и дыхание перехватило уже не от усталости. Перед нами, до самого горизонта, простиралась панорама Тункинских Гольцов. Бесконечные хребты, увенчанные зубчатыми гребнями, уходили в сизую дымку. С этой высоты наше сапфировое озеро казалось крохотным драгоценным камнем, вправленным в оправу из скал и мхов. Царила абсолютная, оглушительная тишина, нарушаемая лишь свистом ветра.
– Это… это просто космос, – срывающимся голосом произнёс кто-то позади. Мы молчали, впитывая величие момента. Даже самые разговорчивые замолкли. Какие могут быть слова перед таким величием?
Сделав на память десятки фотографий и одно общее, где мы, краснокожие и счастливые, щуримся от солнца, мы начали спуск.
Внизу нас ждала комичная картина. Несколько часов под палящим высокогорным солнцем, отражающимся от водной глади, не прошли даром для нашей «пляжной» группы. Валя Касимов, который с утра мазался кремом с усердием, достойным лучшего применения, теперь напоминал варёного рака. —Ничего не помогает! – трагическим голосом заявил он, демонстрируя алые плечи. – Это солнце здесь ядерное! Мы посмеялись, зная, что до конца похода он будет как змея, сбрасывающая кожу.
Путь назад, несмотря на усталость, прошёл бодро. Он то и дело прерывался «голубичными привалами»: склоны были усыпаны плантациями спелой, иссиня-чёрной ягоды. Мы шли, жуя её пригоршнями, и сладкий вкус лета придавал сил.
И всё это время меня не отпускала одна мысль. За весь этот долгий день мы не встретили ни одной живой души. Ни следов костровища, ни обрывков веревки, ни намёка на тропу у озёр. Эти места дышали первозданной, дикой чистотой. Они хранили свою тайну и были щедры лишь к тем, кто пришёл сюда с открытым сердцем и уважением.
Я шёл и думал о Лёхе. Он бы действительно был восхищен этим. Всё: и сложный подъем, и лазурь озера, и безмолвие вершин. Я мысленно дал себе слово вернуться сюда однажды – уже вместе с ним.
Примечание для путеводителя: Радиальный выход на Зун-Гольский перевал— обязательный пункт программы для всех, кто идёт в сторону Шумака от Шумакского перевала (или в обратную сторону). Прохождение занимает один световой день. Общее расстояние (туда-обратно) – около 17 км. Уровень сложности: средний, требует базовой физической подготовки и отсутствия страха высоты. Виды, которые откроются вам на вершине, стоят всех приложенных усилий.
Глава 2
Шумак: найденное одиночество и величие Хуухэйн-Хады
Солнце уже вовсю играло на шелковой поверхности палатки, когда я наконец открыл глаза. Целых восемь часов! Для походного утра, да еще в законном отпуске, – неслыханная роскошь. Сегодня нас ждал переход к долгожданной цели – долине Шумака, к его целебным источникам и легендарным радоновым ваннам. Путь предстоял недолгий и не самый сложный, что и позволило себе такую вольность.
Выбравшись из спальника, я увидел, как группа под руководством Паши начинает зарядку с плавными движениями, напоминающими практики из Кастанеды. Это было красиво, но мою армейскую душу тянуло к чему-то более привычному и бодрому. Отошел в сторонку и тихонько, чтобы никому не мешать, начал свой ритуал: наклоны, приседания, отжимания. Этот проверенный комплекс всегда лучше всего разминал затекшие после сна мышцы.
Я так увлекся, что не заметил, как ко мне подошел Паша. Он молча постоял минуту, наблюдая, а затем хлопнул меня по плечу: – Вот и отлично! С завтрашнего дня подъем на пятнадцать минут раньше, и вся группа – на армейскую гимнастику. Ответственный – ты. В нашем турклубе как в армии: проявил талант – занимаешься этим до самого «дембеля».
Я лишь усмехнулся. Спорить было бесполезно. «Талант» найден – теперь это моя обязанность.
Наконец, собрав лагерь и натянув рюкзаки на плечи, мы тронулись в путь. —Прощайте, бурундуки! – крикнул кто-то, оглядываясь на нашу гостеприимную поляну. – Не поминайте лихом! Пусть не иссякнет поток туристов мимо ваших запасов. – А ты, рыжий хвост, лучше не попадайся! – добавил я, вспомнив наглого зверька, что вчера пытался проверить наши продуктовые мешки на прочность. – Повезло тебе, что мы два раза одними тропами не ходим.
Тропа, вопреки ожиданиям, оказалась коварной: она извивалась серпантином по склону, то взбираясь вверх, то снова опускаясь к реке. Казалось, мы идем долгие часы, а километраж прибавляется незначительно. Через четыре часа решили сделать привал на обед.
На солнцепеке я нашел идеально гладкие, нагретые камни. Самое место для моего сокровища – пучка сагаан дали, алтае-саянского целебного растения. Аккуратно разложил темно-зеленые листья на каменной «сковородке», чтобы они быстрее просушились. Поел, отдохнул, группа собралась – и мы снова двинулись в путь.
Примерно через пятьсот метров меня будто током ударило. – Сагаан дали! – вырвалось у меня с ужасом. – Я же его там оставил! – Денис, я догоню! – крикнул я и, скинув рюкзак, помчался обратно по тропе.
Сердце бешено колотилось. Камни на месте были пусты. «Ну все, прощайся с чаем до конца похода», – пронеслось в голове. Но тут из-за поворота показалась Таня, замыкающая нашу колонну. – Ищешь это? – улыбнулась она, протягивая мне аккуратно свернутый пакетик с заветными листьями. – Таня, ты спасение! Огромное спасибо! – выдохнул я с облегчением.
Забрав свое сокровище и немного поболтав, я ускорил шаг, чтобы догнать основную группу. Но странное дело: я шел минуту, другую, десяток – а никого в округе не было видно. Оглянулся – и Таня уже скрылась из виду. Я остался совершенно один посреди бескрайнего горного леса.
И тут на меня нахлынуло неожиданное чувство – тихой, светлой радости. Я соскучился по одиночеству. В компании, за непрерывным потоком шуток, бытовых разговоров и обсуждений планов, незаметно стирается главное – ощущение полного единения с природой. Ты перестаешь слышать шелест листьев, журчание ручья, пение птиц. Ты перестаешь видеть красоту вокруг, воспринимая ее как просто фон. А здесь, в одиночестве, она снова стала объемной, живой и главной. Эти два часа одиночного хода я провел с огромной пользой для души.
Группу я нашел у места слияния рек Шумак и Правый Шумак. Решающий момент: нужно было найти место для лагеря на все наши пять палаток, да еще с перспективой постройки бани и проведения вечерних «огненных практик». Опасения, что все лучшие места уже заняты другими туристами, к счастью, не подтвердились. Свободные пятачки были, но маленькие.
– Ребята, останавливайтесь здесь, – скомандовал Паша. – Мы втроем на разведку. Я, Паша и Андрей двинулись вверх по течению Правого Шумака. И нам повезло: буквально в пятнадцати минутах ходьбы мы обнаружили идеальную поляну прямо на берегу реки. Места – хоть отбавляй.
Вернулись, привели группу и сразу начали обустраивать лагерь. Первой мыслью, посетившей всех, была: «С дровами тут наверняка проблема». Место-то популярное, паломническое. Решили разведать обстановку и сразу отправились к ТЕМ САМЫМ источникам.
Их оказалось великое множество, каждый с табличкой: «для глаз», «от желудка», «для печени». Нашелся даже источник «мужской силы». Денис, мой сосед по палатке, скептически хмыкнул: – Слушай, пожалуйста, на этот источник особенно не налегай. А то мне потом с тобой в одной палатке небезопасно будет.
Наш бессменный знаток всего и вся, Валя, предположил: – Да это все маркетинг, не верьте. Состав воды примерно одинаковый, просто кто-то когда-то придумал названия для красоты. Возможно, он и был прав, но на вкус каждый источник и правда отличался – где-то вода была более железистой, где-то отдавала сероводородом.
По пути заглянули в знаменитый «Шумакский магазин» – ларек, куда продукты завозят вертолетом. Цены впечатляли. Пакет вафель – 170 рублей, одно яблоко – 80, буханка хлеба – 150, да и ту нужно было заказывать за сутки. Мысли о рыжем бурундуке, оставшемся далеко позади, уже не казались такими шутливыми.
По дороге назад зашли в небольшой дацан, стоявший неподалеку от нашего лагеря. Он был простым, даже аскетичным, но в этой простоте чувствовалась настоящая, не показная духовность. Не то что в том, вылизанном до блеска, туристическом дацане в Ниловой Пустыне, который больше походил на музейный экспонат. – Вот здесь – настоящее, – тихо сказала Таня, и мы с Денисом и Павлом молча кивнули в ответ.
Кульминацией дня должно было стать купание в радоновой ванне. Очередей, о которых нас предупреждали, не было – в просторной каменной купели свободно помещалось человек пять-шесть. Рекомендуемое время – не более пяти минут. Окунулся. Горячей воду можно было назвать очень условно – температура была примерно равна температуре тела. Ощущения были… странными. Никакого особого восторга, кроме осознания факта: «я в радоновой ванне». Единственным экстремальным дополнением были десятки маленьких пиявок, лениво плавающих у краев. После купания мы чувствовали себя не столько оздоровленными, сколько приобщенными к местному ритуалу.
Вечером Паша достал спутниковый телефон, чтобы позвонить домой и, по нашей традиции, узнать точный прогноз погоды. Разговор был коротким. Положив трубку, он обвел всех серьезным взглядом: – Ну, друзья. Готовьте дождевики. Послезавтра, а может и раньше, начинаются дожди. На пару дней.
Как будто кто-то услышал его слова. Спустя несколько минут на брезент палатки упали первые тяжелые капли. Мы успели лишь сложить каменку для будущей бани. Ночь обещала быть влажной и прохладной, но мы были на Шумаке. А ради этого можно было пережить и дождь, и пиявок, и даже армейскую зарядку в восемь утра.
Тишину ночи, густую и бархатистую, разорвал ровно в полночь пронзительный, нечеловеческий крик. Он прозвучал так близко, будто его издали в метре от нашей палатки, и был полон такой первобытной тоски и силы, что кровь стынет в жилах. Крик был на бурятском, я не разобрал слов, но его смысл был ясен и без перевода – это был крик-предупреждение, крик-напоминание о том, что мы здесь лишь гости.
Весь лагерь мгновенно переполошился. Послышалось шуршание спальников, тревожные вопросы, приглушенные голоса. Мы с Пашкой, как по команде, выскочили из палатки, щелкая фонарями. Ослепляющие лучи метались по спящим соснам, высвечивая стволы и пуганые тени, но вокруг не было ни души. Только непроглядная мгла за стенами нашего светового круга и торжественная, ничем не нарушаемая больше тишина.
– Ну, и? – спросил Паша, озираясь. Его дыхание стелилось белым паром. – Никого. Как призрак, – пробормотал я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. – Может, шаман местный решил проверить на прочность нервы пришлых? – предположил он, уже с ухмылкой, но в голосе слышалась неуверенность.
Странно, но после этого тревожного пробуждения сон сморил нас мгновенно. И мне, и Пашке той ночью снились необычайно яркие и приятные сны. «Может, это не крик ужаса, а какой-нибудь ритуальный благословляющий клич? – мелькнула у меня утром мысль. – Надо будет послушать следующей ночью. Если, конечно, повторится».
Утро встретило нас мелким, настырным дождем. Я выбрался из палатки еще до команды «подъем». Воздух пах мокрой хвоей и влажной землей. Картина была неспешная и деловая: Паша, Ринат, Дима и Оля возились с большим тентом-баней, который был настоящим универсальным солдатом нашего похода. Производитель наверняка плакал бы, видя, как мы используем его творение, но для нас оно было и баней, и столовой, и спасением от непогоды.
– Держи выше, Дима! Правее! – скомандовала Оля, пытаясь закрепить угол растяжки. Паша, стоя по колено в мокрой траве, философски заметил: – Главное, чтобы чайник под этим сооружением вскипел. А то так и останемся вареными и несчастными.
Когда вода на походной горелке наконец забурлила, я сделал глубокий вдох и крикнул на весь лагерь: «Кофе готов-в-в!» Эффект был мгновенным. Из палаток послышалось довольное мычание и немедленное шевеление. Да-а, так просыпаются куда охотней.
Ровно в десять мы уже шли налегке по радиалке в сторону священного места – Хуухэйн-Хада. Все карты и отчеты в один голос твердили: идите со стороны турбазы «Шумак» и переходите вброд реку. Но уточнив маршрут у туристов, застрявших здесь уже не первую неделю, мы выяснили любопытное несоответствие.
– Да вы что! Речку переходить не нужно, – убеждал нас бородатый мужчина в потертой штормовке. – Идите прямо по этой тропе, вдоль левого берега. Километров шесть – и упретесь прямо в них. Лучший вид именно отсюда!
– Но в отчетах… – начал я сомневаться. – Да бросьте, – махнул рукой его напарник. – Там, на том берегу, к столбам-останцам можно вплотную подойти, а вот величие их увидеть можно только отсюда. Вы не ошибетесь.
Мы решили довериться местным знатокам и не прогадали. Через полтора часа неспешного хода тропа вывела нас на открытую площадку. И вот они величественные сорокаметровые стражи долины, Хуухэйн-Хада, «Гора-ребенок». Причудливые конгломератовые столбы, взмывающие к небу, будто исполинские оргáны, созданные природой в мезозое и отточенные водой и ветром.
Они стояли на противоположном берегу, но именно с нашей стороны открывался тот самый, захватывающий дух вид. Так и представлялось, как много веков назад на этом самом месте замирали в благоговении древние шаманы, готовясь к своим таинствам. Воздух здесь был густым и звонким одновременно, словно наполненным незримой силой.
Но всю полноту этого места ощутила только Татьяна. Она отошла в сторону, присела на камень и замерла, вслушиваясь в тишину. У нее особое, тонкое отношение к таким местам.
– Чувствуешь? – тихо спросила она, вернувшись к нам. Глаза ее блестели. – Здесь время течет по-другому. Это не просто камни. Это… врата. Место силы. Очень доброе, принимающее.
Мы молча кивнули, оглядывая разбросанные у подножия скал на нашем берегу дары – яркие ленточки, детские машинки, потрепанные куклы.
– Женщины приходят сюда просить детей, – тихо, чтобы не нарушать покой, сказала Оля. – Если хотят мальчика – оставляют машинку, девочку – куклу. – А мужчины? —Мужчины, – вступил в разговор Паша, – медитируют, чтобы увидеть будущее. По легенде, эти столбы – входы в иные миры.
Перед обратной дорогой, деля на всех традиционный козинак с халвой, Паша устроил нам импровизированную лекцию о шаманизме, бурятских традициях и культе обо.
– Шаманизм – это не религия в привычном нам понимании, – говорил он, с упоением отламывая кусок сладкого брикета. – Это путь взаимодействия с миром, где у всего есть душа: у камня, у реки, у ветра. Вот и этот крик ночью… кто знает, может, это дух этих мест решил с нами поздороваться.
Я с наслаждением жевал чудесный козинак, слушая рассказ, и не мог решить, что было прекраснее – съедобная или интеллектуальная пища. Впечатление было целостным и крайне положительным.
Обратный путь мы проделали в невероятном для гор темпе – все те же 6 км, но уже почти бегом, едва успевая переводить дыхание. Перед самым лагерем заглянули в деревянную купальню с радоновой водой и окунулись в теплую, пахнущая сероводородом воду. Больше для ритуала очищения, и чтобы смыть пот и усталость.
В лагере нас ждала идиллическая картина: ребята, оставшиеся дежурить, уже вовсю топили каменку в бане. Из-под полога нашего многострадального тента-кухни-столовой-бани валил густой, соблазнительный дымок.
– Как там ваши столбы? – крикнул нам Коля, подбрасывая в печь очередное полено. – Сильные! – крикнул я в ответ, уже предвкушая, как сейчас зайду в жаркую парную и весь этот день – и ночной крик, и дождь, и величие Хуухэйн-Хады – превратится в чистое, легкое ощущение полного счастья. Сегодня будет баня. А это значит, что день завершится так же прекрасно, как и начался.
Сильные ливни, не утихавшие последние два дня, обрушились на долину настоящим потопом в ту ночь. К утру наш мир изменился до неузнаваемости. Непрерывный гул воды, барабанящей по крышам палаток, сменился грозным рокотанием – это проснулся Шумак. Река, обычно прозрачная и дружелюбно журчащая у самых наших ног, вздулась, почернела и превратилась в грязный, яростный поток. Она несла вырванные с корнем деревья, обломки скал и крутила их в бешеном танце, пугая своим рёвом и невероятной скоростью.
Мосты, соединявшие наш берег с «большой землей», давно скрылись под водой, и лишь едва заметные буруны выдавали их местонахождение. Ольга Петрук, наш бессменный оптимист, остроумно заметила, глядя на бушующую стихию: «Ну вот, товарищи, нас официально отрезали от материка». Сказано было романтично, но действительность выглядела сурово. Даже горы сменили свой летний наряд на белые шапки – пока мы мокли под дождём, там вовсю бушевала метель.
Радиалку к источникам, само собой, отменили. Устроили вынужденную днёвку. Команда была единогласно: «Всем отдыхать!». Особенно не повезло тем, кто с вечера заказал в магазине свежий, хрустящий хлеб. Теперь о нём оставалось только мечтать.
Ближе к вечеру дождь наконец-то затих, сменившись тяжёлыми, разорванными облаками. Мы с Денисом решили прогуляться к берегу, чтобы оценить масштабы бедствия. Воздух был свеж и холоден, а рев воды оглушал.
И тут мы увидели нечто невероятное. Вдали, прямо в ледяной кипящей воде, чей-то силуэт отчаянно боролся с течением. Он пошатывался, скрывался по пояс в пене, но с невероятным упорством продолжал движение к нашему берегу.
– С ума сошёл! – воскликнул Денис, щурясь. – Храбрый парень, чертовски храбрый. Смотри, его вот-вот снесёт!
Казалось, ещё секунда – и смельчака поглотит водяной хаос. Но он, сделав последнее усилие, выбрался на мелководье и, тяжело переступая, направился в нашу сторону.
По мере его приближения наши глаза округлялись всё больше. Из-под намокшей, облепившей фигуру куртки выглядывало не мужское волевое лицо, а хрупкое, до прозрачности бледное личико молодой девушки. Она вся дрожала мелкой дрожью, мокрая с головы до ног, а в руках её болтались стоптанные треккинговые сандалии – она шла босиком по холодным камням.
– Добрый вечер, – хрипло выдохнула она, подходя. Зубы её стучали. – Я… к источникам?
– Вы к источникам, – растерянно кивнул я. – Но вы одна? Откуда?
Перекинувшись парой фраз, я узнал историю, от которой у меня перехватило дыхание. Она шла одна, без подробных карт, без группы, движимая лишь рассказами о Шумаке. Её путь начался в Монголии, а после Шумака она планировала… уйти в Китай. Это была даже не смелость, а какая-то запредельная, детская вера в мир и свою звезду.
– Вам срочно нужно согреться и высушить вещи, – сказал я, смотря на её трясущиеся руки. – У нас костёр, но… – я окинул взглядом наш лагерь, где на верёвках висело такое же мокрое бельё. – Наши вещи сохнут третий день и всё равно сырые. Вам нужно к печке.
Я указал ей на одинокий домик-зимовье, стоявший неподалёку от турбазы.
– Идите туда, там есть печка. Разожгите, просушитесь как следует. Главное – согрейтесь.
Она кивнула, слабо улыбнулась и, поблагодарив, побрела к зимовью, оставляя на земле мокрые следы маленьких босых ног.
Мы молча смотрели ей вслед. – В наше время, – задумчиво произнёс Денис, – ещё остались настоящие первопроходцы. Просто идут, куда глаза глядят. Силён духом человек.
Попрощавшись и пожелав ей счастливого пути, я ещё долго думал о ней. О том, сколько в мире удивительных, отчаянных людей, чьи пути столь причудливо пересекаются с нашими на столь короткое время.
Я встретил её ещё раз через пару дней на источниках. Она была почти неузнаваема: сухая, умытая, с румянцем на щеках и лёгкой, почти летящей походкой. Мы лишь снова кивнули друг другу, и она растворилась среди пара и камней. Это была наша последняя встреча.
Я часто вспоминал её. И всегда надеялся, что у неё всё хорошо, и что её невероятный, безрассудный поход окончился именно так, как она задумала. Где-то там, в Китае.
Дождь, барабанивший по палатке два дня, наконец-то стих. Вместо серой ваты туч над долиной сияла бездонная синева. Воздух, промытый ливнями, звенел от птичьих голосов и был на удивление прозрачным и сладким. В лагере царило приподнятое настроение: сырость осталась позади, а впереди был новый день и новая цель – радиалка к ближайшим водопадам на притоке Шумака.