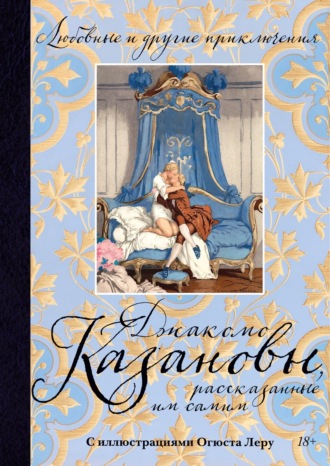
Полная версия
Любовные и другие приключения Джакомо Казановы, рассказанные им самим
Все это проделывал я почти в полной темноте и без единой капли масла для умягчения железа. Вместо масла я использовал слюну и за восемь часов получил пирамидальное острие с восемью гранями столь совершенной формы, каковую можно было ожидать лишь от хорошего слесаря. Невозможно описать те усилия и муки, коих сие стоило мне, – пытка подобного рода осталась неизвестной тиранам всех веков. Правая моя рука как бы окоченела, и я почти не мог ею двигать. Ладонь превратилась в одну большую рану. Читателю трудно будет представить, какую боль претерпевал я, заканчивая свою работу.
Преисполненный гордости и еще не понимая, как смогу использовать изготовленное мною орудие, прежде всего озаботился я тем, чтобы надежнее схоронить его от самого дотошного обыска. Перебрав тысячу всевозможных способов, придумал я наконец использовать для сего мой стул и устроил все настолько удачно, что невозможно было что-либо заметить. Само Провидение помогало мне приготовиться к бегству, каковое можно было почитать достойным восхищения и почти равным чуду. Согласен, я похваляюсь этим, но тщеславие мое проистекает не от успешного исполнения, ибо удача сыграла здесь главенствующую роль; я горжусь тем, что почел сие возможным и имел достаточно храбрости действовать, невзирая на все неблагоприятные шансы, и, если бы замыслы мои рухнули, положение мое бесконечно ухудшилось бы и, возможно, я лишился бы надежды вернуть себе свободу.
Поразмыслив три или четыре часа о том, как же употребить мой засов, преображенный в пику толщиною с хорошую трость и двадцатидюймовой длины, почел я за наилучшее проделать дыру под кроватью.
У меня не было сомнений, что комната под моей камерой именно та, куда меня привели к секретарю. Проделав дыру, можно легко спуститься на простынях, спрятаться под большим столом трибунала и утром, как только отопрут входную дверь, выйти наружу. Даже если в сию залу поставят охранника, я с помощью моей пики сумею быстро избавиться от него. Но пол может оказаться двойным и даже тройным, и как в таковом случае помешать стражникам подметать у меня в течение, положим, двух месяцев, потребных для работы? Не разрешая сего, я могу возбудить подозрения, тем паче что из-за блох я сам настоятельно требовал каждодневного подметания. Надобно было найти средство устранить сие препятствие.
Для начала я запретил подметать, не объясняя причины. Через восемь дней Лоренцо спросил об этом. Я отвечал, что от пыли у меня сильнейший кашель и посему могут произойти гибельные последствия.
– Сударь, я прикажу поливать пол.
– Тогда станет еще хуже, так как сырость вызовет переполнение крови.
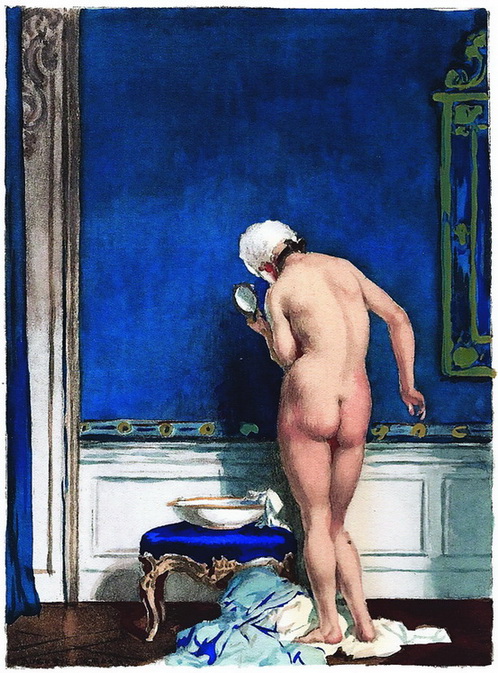
Это дало мне еще неделю отсрочки, после чего сей дурень велел снова подметать, а кровать выносить на чердак; кроме того, якобы для большей чистоты, зажигать еще свечу. Значит, у него зародились какие-то подозрения. Но я сумел изобразить полное безразличие к таковым действиям и отнюдь не собирался отказаться от своего замысла, а думал только, как бы улучшить его. На следующее утро я уколол себе палец, смочил кровью платок и ждал Лоренцо, лежа в постели. Как только он явился, я сказал ему, что из-за страшного кашля у меня, верно, повредился какой-нибудь сосуд, отчего и произошла та кровь, которую он видит, а посему мне надобен лекарь. Когда сей последний пришел и предписал отворить кровь, я пожаловался ему на Лоренцо, который непременно желал подметать у меня. Лекарь выговорил ему за то, присовокупив, как я просил его, историю одного юноши, который умер именно по этой причине. Заключил он рассуждением о вредоносности вдыхаемой пыли. Лоренцо клялся всеми богами, будто заставлял подметать для моего же блага, и обещал, что сие уже не повторится. После сего стражники на радостях решили подметать только у тех узников, которые дурно с ними обращались.
Когда лекарь ушел, Лоренцо просил у меня прощения и уверял, что все прочие, несмотря на подметание, вполне здоровы. «Но дело серьезное, – присовокупил он, – и я предупрежу их, ведь они для меня все равно как дети».
Кровопускание возвратило мне сон и избавило он спазматических судорог, которые начали уже пугать меня. Я стал лучше есть и с каждым днем набирал силы, однако время начинать работу еще не наступило: стояла такая стужа, что руки не смогли бы сколько-нибудь долго держать пику. Дело мое требовало сугубой предусмотрительности. Надобно было избегать всего, о чем могли бы догадаться заранее.
Долгие зимние ночи приводили меня в отчаяние, ибо девятнадцать ужасных часов приходилось проводить в сумерках, а при пасмурной погоде, которая в Венеции не столь уж редка, даже возле окна не было возможности читать. Поглощенный одной только мыслью, я не думал ни о чем другом, как о побеге.
В воскресенье под Великий пост, сразу после полудня, услышал я скрежет затворов, и вошел Лоренцо, а за ним толстяк, в котором признал я иудея Габриеля Шалона, известного тем, что он снабжал деньгами молодых вертопрахов, запутывая их в разные дурные дела.
Хоть мы и были знакомы, общество его не могло быть мне приятно. Впрочем, меня об этом не спрашивали. Он просил Лоренцо отправиться к нему домой и привезти обед, кровать и все необходимое, однако тюремщик отвечал, что они поговорят об этом завтра.
Сей иудей был невежествен, болтлив и глуп во всем, за исключением своего ремесла. Для начала он заявил, что мне повезло быть избранным в качестве его сожителя. Вместо ответа я предложил ему половину своего обеда, от которого он отказался, поелику, как он выразился, не берет в рот нечистого.
В среду на Святой неделе Лоренцо предупредил нас, что после полудня синьор секретарь придет к нам, как принято по обычаю, с пасхальным визитом, дабы поселить успокоение в души тех, кто хочет приобщиться к таинству Евхаристии, равно как и для того, чтобы узнать, нет ли жалоб на смотрителя. «Если вы, сударь, недовольны мною, – добавил Лоренцо, – жалуйтесь сейчас же. И оденьтесь, как оно полагается». Я велел ему привести ко мне на следующий день священника, потом полностью оделся, и мой иудей последовал сему примеру, не преминув в то же время заранее распрощаться со мной – столь он был уверен, что секретарь сразу же возвратит ему свободу.
– Предчувствия никогда не обманывают меня.
– Поздравляю вас, но стоит ли рассчитывать без хозяина? – ответил я, но он не понял моего намека.
Синьор секретарь действительно явился, и как только дверь камеры отворилась, иудей выбежал и бросился перед ним на колени. Минут пять я слышал лишь стенания и крики, секретарь же не обронил ни слова. Наконец иудей вернулся в камеру, и Лоренцо позвал меня. Со своей восьмимесячной бородой и в костюме, подходящем для любовных утех на лоне лета, я при стоявших тогда холодах являл собой презабавную фигуру. У меня чуть ли не стучали зубы, и более всего я боялся, как бы секретарь не подумал, будто сие проистекает от страха. Выходя через дверь, я сильно наклонился, что вполне заменило поклон, и, выпрямившись, спокойно посмотрел на него, без всякой, впрочем, гордости, вполне неуместной в моем положении. Я ждал, чтó он мне скажет, но секретарь тоже молчал, и мы стояли друг против друга как две статуи. Минуты через две, не услышав от меня ни звука, он слегка наклонил голову и удалился, а я, поспешно раздевшись, лег в постель, чтобы поскорее согреться. Иудей был немало удивлен, почему я ничего не сказал секретарю, хотя молчание мое было намного красноречивее его малодушных воплей. Такой узник, как я, должен лишь отвечать на вопросы судей и не произносить более ни слова.
В Великий четверг я исповедовался пришедшему иезуиту, а еще через день священник от Святого Марка приобщил меня Святых Тайн. Исповедь моя показалась сему верному отпрыску Игнатия слишком лаконичной, и, прежде чем отпустить мои грехи, он сделал мне внушение.
Недели через две после Пасхи избавили меня от надоедливого иудея, и сей бедняга, вместо того чтобы отправиться домой, был приговорен провести два года в Кватре. По выходе оттуда он обосновался в Триесте, где и окончил свои дни.
Оставшись один, я энергически принялся за работу. Надобно было спешить из страха, что какой-нибудь новый сожитель потребует подметать камеру. Я сдвинул кровать и, вооружившись пикой, лег на пол, а рядом расстелил салфетку, дабы класть в нее то, что буду выдалбливать своей пикой. Вначале кусочки, которые мне удавалось откалывать, были не крупнее зерен пшеницы, но вскоре стали увеличиваться. Сделанные из лиственницы доски имели ширину в шестнадцать дюймов. Я начал с того места, где они соединяются друг с другом. После шести часов работы салфетка наполнилась, и я отложил ее в сторону, чтобы завтра опорожнить на чердаке за кучей бумаг.
На следующий день, пробив первую доску двухдюймовой толщины, уперся я во вторую, подобную первой. Преследуемый страхом перед новыми сожителями, я удвоил усилия и за три недели прошел насквозь все три настила. И тут впал я почти в совершенное отчаяние, ибо далее начинался слой мраморной крошки. Это обычное покрытие во всех венецианских домах, кроме самых бедных, и даже знатные вельможи предпочитают его наилучшим сортам дерева. Но пика моя не брала этот слой. Тогда я вспомнил рассказ Тита Ливия, как Ганнибал прошел через Альпы: прежде чем сокрушать скалы топорами и другими орудиями, их размягчали уксусом. Я вылил в свою дыру все, что у меня было, – целую бутылку крепкого уксуса. На следующий день, то ли вследствие его действия, то ли благодаря сну, я сумел преодолеть сие новое препятствие, и вскоре, к величайшей моей радости, обнаружилось, что надо было только раскрошить тонкий верхний слой клеевой замазки. За четыре дня я прорубил мраморную крошку, причем острие моей пики нисколько не затупилось.
Под этим слоем обнаружилась еще одна доска, которую, впрочем, я ожидал. Долбить ее было затруднительно, поскольку дыра моя достигала уже десятидюймовой глубины, что мешало держать пику. Тысячу раз предавал я себя на милость Господа. Вольнодумцы, полагающие молитву делом вполне бесполезным, не знают того, о чем говорят. Мне хорошо знакомо из собственного опыта, что после молитвы у меня всегда прибывало сил. Сие есть уже достаточное доказательство, какова бы тут ни была причина: то ли непосредственное вмешательство самого Всевышнего, то ли просто вера в Него.
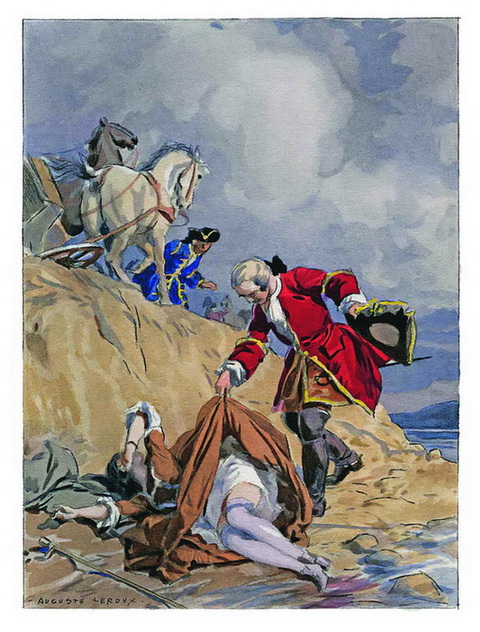
После еще одного вынужденного перерыва возобновил я свои труды и продолжал их уже без остановки до полного окончания 23 августа. Столь длительная задержка произошла из-за весьма естественного случая. Прорезая с величайшей осторожностью последнюю доску, я дошел до тончайшего слоя и сделал небольшое отверстие, чтобы заглянуть в зал инквизиторов. Я и на самом деле увидел его, но в этом же месте оказалась какая-то отвесная к потолку поверхность. Опасения мои подтвердились – это была восьмидюймовая балка, одна из тех, которые поддерживают потолок. Пришлось расширить лаз на четверть, чтобы мое довольно крупное тело имело возможность через него протиснуться. Я метался между надеждой и страхом, ибо расстояние промеж двух балок могло оказаться для меня недостаточным. Завершив расширение, через другую маленькую дырку я удостоверился, что Господь благословил мои труды. Обе дырки я тщательно заделал, дабы ни единой мусоринки не упало в залу и свет от моей лампы не выдал бы меня.
Время бегства я назначил на канун св. Августина, поскольку в сей праздник, 27 августа, собирается Большой совет[90]. Но 25-го со мною приключилось несчастье. При воспоминании об этом меня и сейчас, по прошествии стольких лет, бросает в дрожь.
Ровно в полдень раздался скрежет запоров, и сердце мое забилось с такою силою, словно наступили последние минуты моей жизни. Совершенно потерявшись, я рухнул на стул. Вошел Лоренцо и, подойдя к решетке, весело крикнул мне:
– Поздравляю вас, сударь, с доброй вестью!
Первая моя мысль была об освобождении, ибо я не мог вообразить ничего иного. Она заставила меня содрогнуться – если бы обнаружился лаз, помилование, конечно, отменили бы.
Лоренцо велел мне следовать за ним.
– Подождите, пока я оденусь.
– Не стоит труда, вам надобно лишь перейти из сей гнусной камеры в другую, светлую и совершенно новую. Там через два окна вы будете видеть половину Венеции и можно стоять во весь рост…
Мне показалось, что я сейчас же свалюсь без чувств.
– Подайте мне уксус, – ответил я, – и доложите синьору секретарю о моей благодарности за сию милость трибунала. Но я умоляю оставить меня здесь.
– Не смешите меня, сударь. Уж не сошли ли вы с ума? Вас переносят из ада в рай, а вы отказываетесь! Нечего, надобно повиноваться. Вставайте. Я велю перенести вещи и книги.
Сопротивление было бесполезно, но когда я услышал, что он распорядился нести мой стул, в коем находилась спрятанная пика, сие почти утешило меня, поелику вместе с нею оставалась и надежда. Больше всего мне хотелось бы перенести и любезный мой лаз, с коим терял я столько трудов и упований. Можно сказать, что, покидая сие ужасное место страданий, оставлял я в нем всю свою душу.
Опираясь на Лоренцово плечо, прошел я два тесных коридора, потом, спустившись на три ступени, через весьма светлую залу и еще один коридор в новую мою камеру. Окно в ней было забрано решеткой и выходило на два других также зарешеченных окна, которые освещали коридор. Через них я мог наслаждаться прекрасным видом до самого Лидо, но в ту минуту не питал к сему ни малейшего расположения. Однако позднее я имел удовольствие узнать, что, когда окно это отворяли, сквозь него проникало свежее дуновение воздуха, умерявшее нестерпимую жару. Сие было истинным бальзамом, особливо в летнее время.
Недвижимо сидел я на своем стуле, словно статуя в ожидании бури, но не испытывал никакого страха. Оцепенение мое происходило оттого, что все труды, все измышленные мною ухищрения пропали даром. Вместе с тем я не чувствовал ни боязни, ни раскаяния и, как единственное доступное мне утешение, старался не думать о будущем.
Пока пребывал я в таковом состоянии подавленности и отчаяния, два стражника принесли мою кровать. Они сразу же отправились за остальными вещами, но прошло более двух часов, прежде чем я увидел кого-нибудь, хотя дверь камеры оставалась открытой. Сия неестественная задержка породила у меня множество мыслей, но я не мог остановиться ни на чем определенном, зная только, что должен опасаться всего, а посему старался обрести спокойствие, дабы противостоять любым напастям.
Кроме Свинцовой крыши и Кватры, у инквизиторов Республики было еще девятнадцать ужасных темниц под землей в том же Дворце дожей для тех несчастных, коих не хотели казнить смертию, хотя они того и заслуживали.
Сии подземные норы ничем не отличались от могил, однако же их называли колодцами, ибо там всегда стояло на два фута морской воды, каковая проникала через ту же решетку, что и жалкие крохи дневного света. Решетки эти были не больше одного квадратного фута. Ежели несчастный узник сей клоаки не хотел мокнуть в грязной воде, ему приходилось сидеть весь день на настиле. Утром давали кувшин воды, жалкий суп и порцию солдатского хлеба. Все это надобно было съедать сразу же, чтобы не досталось большим морским крысам, кои изобилуют в сих ужасных жилищах. Обычно те несчастные, которых сажают в колодцы, обречены находиться там до конца своих дней и, случается, достигают глубокой старости. Когда я сидел под свинцовой крышей, там умер один злодей после тридцати семи лет заточения. А попал он туда в сорок четыре года.
Во все течение двух тягостнейших часов ожидания, предаваясь самым мрачным мыслям, не мог я не предположить, что и меня бросят в одну из сих ужасных нор. Трибунал вполне мог отправить в ад всякого, кто пытался бежать из чистилища.
Наконец послышались быстрые шаги, и передо мною явился Лоренцо с искаженным злобою лицом, изрыгая проклятия на всех святых и самого Бога. Начал он с того, что велел отдать топор и все инструменты, употреблявшиеся для пробития пола, и признаться, кто из стражников доставил мне оные; на сие, даже не шевельнувшись и с величайшим хладнокровием, ответствовал я ему, что не понимаю, о чем идет речь. Тогда он велел обыскать меня, но я предпочел сам раздеться догола со словами: «Делайте свое дело, но не вздумайте дотрагиваться до меня».
Осмотрели матрас и тюфяк, прощупали подушки на стуле, однако ничего не нашли.
– Не хотите сказать, где инструмент, найдутся другие способы заставить вас говорить.
– Если я признаюсь, что продолбил дыру, то укажу на вас как передавшего мне к тому средства.
После этой моей угрозы, на которую одобрительно ухмыльнулись стоявшие тут же стражники, коих Лоренцо, верно, чем-либо раздражил, он топнул ногой, схватился за волосы и выбежал словно одержимый. Его люди принесли мои вещи, за исключением точильного камня и лампы. Перед тем как уйти, он затворил обе рамы, через которые проходило хоть немного воздуха, и я оказался запертым в тесном пространстве, почти лишенный возможности дышать. Новое мое положение не слишком пугало меня, ибо отделался я сравнительно недорогой ценой. Вопреки правилам своего ремесла Лоренцо не догадался перевернуть стул. Возблагодарив Всевышнего за сохранение моей пики, почитал я для себя возможным надеяться на то, что рано или поздно сия последняя доставит мне избавление.

Ночь я провел не смыкая глаз, как по причине жары, так и вследствие изменившегося моего положения. На рассвете Лоренцо принес мне прокисшее вино и воду, которую нельзя было пить. Под стать сему было и остальное: засохший салат, вонючее мясо и хлеб тверже английских сухарей. В камере не убирали, а когда я попросил отворить окна, он не показал вида, что слышит меня. Зато один из стражников, вооруженный железным прутом, принялся простукивать все стены и пол, особливо под моей кроватью. Я взирал на это с совершенным бесстрастием, но приметил, что стражник не стучал по потолку. «Вот здесь и лежит путь из сего ада», – сказал я себе. Однако для успеха такового замысла требовались средства, не зависевшие от меня. В камере все было на виду, и малейшая трещина сразу бросилась бы в глаза моим тюремщикам.
Я провел ужасный день, как из-за удушающей жары, так и вследствие того, что не мог есть ту пищу, которую принес Лоренцо. Слабость не позволяла мне ни читать, ни ходить. На следующий день обед оставался прежним – я не мог не попятиться от запаха гниющего мяса и сказал: «Так тебе приказано уморить меня голодом и жаром». Он не ответил ни слова и запер камеру. На третий день ничего не переменилось. Я потребовал карандаш и бумагу, чтобы написать к секретарю. Ответа не последовало.
Придя в совершенное отчаяние, я съел суп и размоченный в кипрском вине хлеб, рассчитывая придать себе силы, дабы на следующий день отмстить Лоренцо и заколоть его моей пикой. Побуждаемый яростию, не видел я никакого другого исхода. Ночь принесла мне успокоение, и когда наутро явился мой истязатель, я лишь сказал ему, что, как только получу свободу, сразу же убью его. В ответ он рассмеялся и ушел, не обронив ни слова.
Я уже начал думать, что он действует по приказу секретаря. Положение мое было ужасно, я разрывался между терпением и безнадежностью и чувствовал, как меня покидают силы. Наконец, на восьмой день, обуреваемый яростью, в присутствии стражников я вопросил его громовым голосом, куда подевались мои деньги. Он сухо ответил, что завтра даст в том отчет. Когда он выходил, я схватил ведро и намеревался выплеснуть содержимое в коридор. Предваряя мое намерение, Лоренцо велел стражнику взять его, а на время сего отвратительного действа отворил одно окно, которое сразу же и закрыл, не обращая внимания на мои протесты. Рассудив, что сие омерзительное, но необходимое дело совершили только после моих проклятий, приготовился я назавтра обойтись с Лоренцо еще круче. Но когда он пришел, гнев мой утих, ибо, перед тем как представить счет, он подал мне присланную синьором Брагадино корзину лимонов, а также большую бутыль хорошей воды и отменного жареного цыпленка. Кроме того, один из стражников сразу же отворил оба окна. Когда Лоренцо подал мне денежный счет, я посмотрел только на всю сумму и велел отдать остаток его жене, исключая один цехин, назначенный мною для стражников. Сия незначительная щедрость навлекла на меня изобильные благодарности этих бедняков.
Как только мы остались одни, Лоренцо держал следующую речь:
– Вы мне сказали, сударь, что именно от меня получили те предметы, коими проделали огромную дыру. Объясните, как я мог дать вам топор?
– Я скажу все, но только в присутствии секретаря.
– Ладно, зачем мне это знать? Я прошу лишь молчания. Я бедный человек, у меня дети.
Он ушел, схватившись за голову.
Мне оставалось только от полноты сердца поздравить себя с тем, что нашлось средство запугать этого мошенника, ибо он боялся сообщить своим начальникам о случившемся.
Я велел ему купить мне сочинения Маффеи. Сей расход был для него неприятен, но он не осмелился возражать, а лишь спросил, зачем еще новые книги, когда у меня их и без того предостаточно.
– Мне надобны другие, я уже все прочел.
– А ведь можно брать на прочтение у кого-нибудь из тех, кто здесь содержится, если вы согласны обмениваться. А заодно сбережете и деньги.
– У них, верно, одни романы, я не люблю их.
– Нет, это ученые книги, вы напрасно думаете, что здесь вы один такой.
– Ладно, посмотрим. Возьми эту книгу и принеси какую-нибудь взамен.
Я дал ему «Рационариум»[91] Петавия, и через четыре минуты он доставил мне первый том Вольфа. Удовлетворенный, я сказал, что обойдусь без Маффеи, чем премного его обрадовал.
Зато я был не столько доволен возможностью развлечься новым чтением, сколь завязать сношения с кем-нибудь, кто мог бы способствовать моему замыслу. У меня отрос на мизинце длинный ноготь, заострив который можно было писать кровью. Потом я сообразил, что для сего вполне пригоден сок ягод, и, написав перечень моих книг, вложил его внутрь корешка. На титуле я написал: «Latet»[92]. Мне не терпелось получить ответ, и на следующий день, как только пришел Лоренцо, я сказал ему, что уже прочел книгу и прошу ее владельца прислать мне другую. Через минуту у меня был уже второй том.
Как только смотритель ушел, я открыл книгу и нашел внутри листок, написанный по-латыни: «Нас двое в одной камере, и нам чрезвычайно приятно, что невежество жадного тюремщика дает нам невиданную для сих мест возможность. Пишет вам Марин Бальби, благородный венецианец и монах, а мой сотоварищ – граф Андреа Асквино из фриульской столицы Удино. Он поручил мне сообщить вам, что все его книги, список коих вы найдете внутри корешка, в вашем распоряжении; однако мы предупреждаем вас, сударь, о необходимости соблюдать все возможные предосторожности, дабы скрыть от Лоренцо наши сношения».
Я хотел любой ценой добиться свободы. Сохранившуюся у меня превосходнейшую пику использовать было невозможно, поелику каждое утро всю мою камеру простукивали, за исключением потолка. Следственно, выходить надо через потолок, но пробивать лаз снизу нельзя, так как на это не хватит одного дня. Посему надобен помощник, и он может спастись вместе со мной. Мне не приходилось мучиться выбором, – конечно, брать следовало только монаха. Ему тридцать восемь лет, и, хотя рассудительность его оставляла желать лучшего, я полагал, что любовь к свободе, сей первейший движитель человека, придаст ему достаточно решительности, дабы исполнять мои приказания. Надобно было решиться все открыть ему и потом изобрести способ переслать мою пику.
Начал я с вопроса, стремится ли он к свободе и готов ли ради сего довериться мне. Он ответствовал, что они вместе с товарищем способны на все, лишь бы избавиться от своих цепей, но почитают бесполезным ломать себе голову над пустыми прожектами. Он заполнил четыре больших листа своими мыслями касательно непреодолимых препон, представлявшихся его бедному рассудку, который не видел ничего дававшего хоть малейшую надежду на успех. Я ответил ему, что меня не интересуют общие рассуждения, но лишь вполне определенные трудности, а сии последние будут преодолены. В заключение я обещал своим честным словом вывести его на свободу, если он будет в точности исполнять мои предписания.

И он согласился на все это.
Я сообщил ему, что у меня есть двадцатидюймовая пика, и посредством сего орудия он должен пробить у себя потолок, потом через стену попасть в помещение над моей камерой и вызволить меня. «После сего ваше дело окончено и наступает мой черед дать вам и графу Асквино свободу».
Он ответил мне, что так они лишь выведут меня из камеры, но отнюдь не из тюрьмы и наше положение ничуть не изменится – просто мы попадем на чердак, запертый тремя крепкими дверями.
«Сие мне ведомо, преподобный отец, – отвечал я, – но двери нам не понадобятся. Все уже решено, и успех несомненен. Ваше дело воздерживаться от противоречий и только исполнять. Думайте лучше о том, как доставить вам наше орудие спасения, не вызывая подозрений. А пока велите смотрителю купить четыре десятка картинок со святыми, достаточно крупных, чтобы закрыть всю поверхность вашей камеры. Они не вызовут подозрений Лоренцо и позволят скрыть дыру в потолке, на которую потребуется несколько дней работы».



