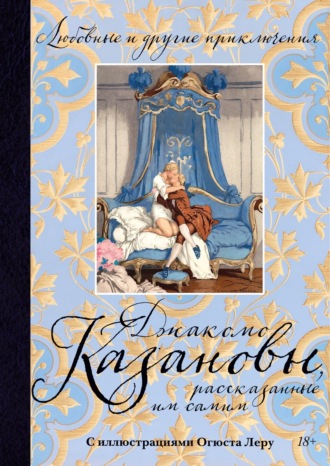
Полная версия
Любовные и другие приключения Джакомо Казановы, рассказанные им самим
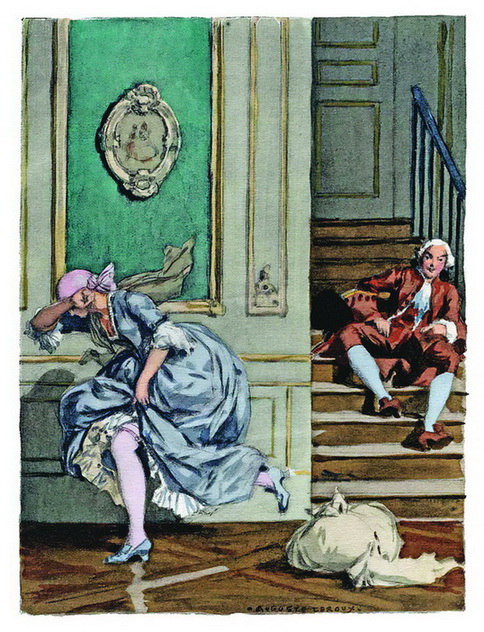
Все эти обвинения, хотя и совершенно безосновательные, послужили страшному трибуналу предлогом, дабы обойтись со мной как с врагом отечества и опасным заговорщиком. В продолжение нескольких недель некоторые особы, коим я мог бы вполне довериться, советовали мне уехать в чужие края, поскольку мною занимается трибунал. Одного такого сообщения было уже вполне достаточно, ибо в Венеции спокойно жить может лишь тот, чье существование неизвестно трибуналу. Но я упорно не внимал их увещеваниям, ибо не хотел знать ни о каких неприятностях. Я говорил себе: у меня спокойная совесть, значит я ни в чем не виновен и бояться мне нечего. Это было воистину глупо. Кроме того, думать о возможном несчастье мешали прежде всего те беды, которые угнетали меня с утра до вечера. Каждый день я проигрывался и был должен всем вокруг. Пришлось отдать в залог все свои драгоценности и украшения, даже табакерки с портретами. Впрочем, сии последние я имел осторожность снять и отдал на хранение синьоре Манцони вместе со всеми важными бумагами и любовными письмами. Я уже начал замечать, что меня избегают.
В июле 1755 года мессер-гранде[78] получил повеление гнусного трибунала схватить меня живым или мертвым. Сими устрашающими словами сопровождались все приказы об аресте этого грозного триумвирата. Да и другие, даже незначительные, повеления всегда грозят неповинующемуся смертию.
26 июля 1755 года, едва взошло солнце, ко мне в комнату явился страшный мессер-гранде. Я был тотчас же разбужен и спрошен, верно ли, что я и есть Джакомо Казанова. После ответа моего: «Да, я Казанова» – мне велели встать, одеться, отдать все рукописи и следовать за ним.
– Чей это приказ?
– Это повеление трибунала.
Сколь велика власть некоторых слов над нашими душами и кто сможет отыскать сему объяснение? Еще вчера я кичился тем, что ни в чем не виновен и ничего не страшусь, а теперь одно упоминание о трибунале привело меня в оцепенение и лишило даже физических сил, исключая разве способности безвольно повиноваться.
Мой секретер был открыт, а все бумаги лежали на столе.
– Берите, – сказал я посланцу страшного судилища, указывая на них.
Он наполнил ими мешок и передал его приставу, после чего потребовал те переплетенные рукописи, которые должны были у меня быть. Я указал, где они лежали, и только тогда понял, в чем дело,– подлый Мануцци, втершийся ко мне в доверие якобы для покупки этих книг, донес на меня. Это были: «Ключ Соломона»[79], «Зекор-бен»[80], «Пикатрикс»[81], обширный «Планетный часослов» и заклинания, потребные для разговоров с демонами всех степеней. Те, кто знал, что у меня есть сии книги, почитали меня великим магом, и я не старался разубедить их.
Мессер-гранде взял также и те книги, кои лежали на столе возле кровати: Петрарку, Ариосто, Горация, «Монастырского привратника»[82] и Аретино[83], о коем Мануцци тоже донес, ибо мессер-гранде особо спрашивал про него.
Пока они собирали мои рукописи, книги и письма, я почти бессознательно занимался своим туалетом: побрился, причесался, надел кружевную рубашку и праздничный костюм. Мессер-гранде, который ни на минуту не спускал с меня глаз, отнюдь не посчитал неуместным, что я одеваюсь как на свадьбу.
Когда я выходил, меня поразило, что в прихожей набилось человек сорок стражников. Мне сделали честь, сочтя их необходимыми для ареста моей персоны, хотя, согласно известной аксиоме «nе Hercules quidem contra duos»[84], вполне хватило бы и двоих. Примечательно, что в Лондоне, где каждый – храбрец, для ареста используют лишь одного агента, а в моем дорогом отечестве среди отъявленных трусов для сего надобно тридцать. Впрочем, от страха и слабодушный подчас делается храбрецом. В Венеции нередко один человек защищается противу двух десятков сыщиков, и ему удается скрыться от них. Как-то в Париже я сам помог одному из моих друзей вырваться от сорока стражников, коих мы обратили в бегство.
Мессер-гранде посадил меня в гондолу и сам поместился рядом с охраной из четырех человек. По прибытии к нему он предложил мне кофе, от которого я отказался, после чего был заперт в какой-то комнате. Там я провел четыре часа и все это время спал, просыпаясь, правда, каждые пятнадцать минут, чтобы помочиться, чего со мной прежде никогда не бывало. К тому же стояла чрезмерная жара и накануне я не ужинал. Ранее я имел случай убедиться, что внезапные неприятности вызывают у меня отупение, а на сей раз они подействовали и как сильное мочегонное. Оставляю сие открытие физикам. Может быть, кто-нибудь из них сумеет извлечь из него пользу для вспомоществования человечеству.
Около трех часов явился начальник стражи и объявил, что ему приказано доставить меня под свинцовую крышу[85]. Не ответив ни слова, я пошел за ним. Мы сели в гондолу и после тысячи поворотов по мелким каналам вошли в Большой канал и высадились на тюремной набережной. Поднявшись по нескольким лестницам, мы прошли через запертый мост, который соединяет тюрьму с Дворцом дожей, и, войдя в галерею, попали в одну комнату, потом в другую, где я предстал перед каким-то человеком в одеянии патриция. Сей последний, смерив меня с головы до ног взглядом, сказал: «Е quello mettetelo in deposito»[86].
Это был секретарь инквизиторов, которому, по всей видимости, было стыдно говорить в моем присутствии по-венециански и который отдал приказ на тосканском наречии.
После сего мессер-гранде передал меня стоявшему тут же с огромной связкой ключей смотрителю Свинцовой тюрьмы, и в сопровождении двух стражников мы поднялись по лесенкам на галерею, оттуда через запирающуюся дверь попали в другую, а потом и в третью, из которой вышли на грязный чердак длиною саженей в шесть и две шириною, еле освещенный слуховым окном. Я решил, что этот чердак и будет моей тюрьмой, но не угадал. Отцепив ключ неимоверной длины, тюремщик отпер обитую железом дверь высотою фута три с половиною, посредине которой была дыра восьми дюймов в поперечнике. Я тем временем со вниманием разглядывал некую железную машину, прочно приделанную к стенке. Она имела вид подковы толщиной в дюйм и пятидюймовой окружности. Я старался понять, каково употребление сего ужасного инструмента, но тут тюремщик с улыбкой сказал мне:
– Вы, сударь, верно, хотите знать, для чего это служит. Я могу удовлетворить ваше любопытство. Когда их превосходительства велят удавить кого-нибудь, его сажают на табурет, спиной к этому ошейнику, в который входит половина шеи. Другую половину захлестывают шелковым шнуром, концы коего закреплены на колесе. Колесо крутят до тех пор, пока пациент не отдаст душу Господу, а духовник, слава богу, не оставляет его до последнего издыхания.
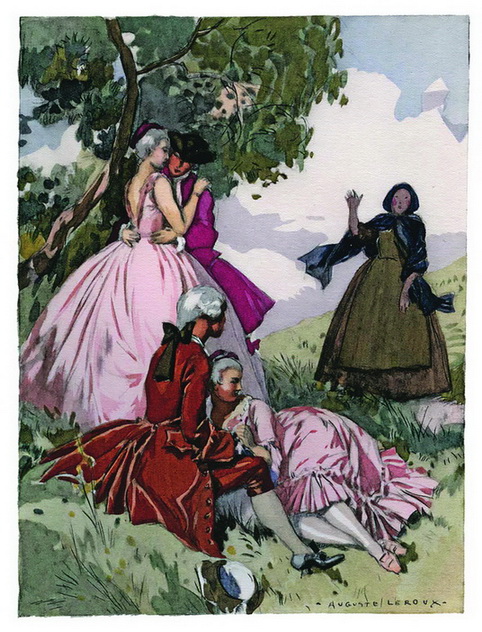
– Весьма изобретательно. Полагаю, именно вам предоставлена честь крутить колесо?
Он ничего не ответствовал и знаком велел мне войти в дверь, для чего я был принужден согнуться почти вдвое. Затем он запер меня и спросил через зарешеченное отверстие, что я буду есть.
– Я еще не думал об этом.
Тщательно заперев все двери, он удалился.
Ошеломленный и подавленный, стоял я, опершись на решетку. Она представляла собой двухфутовый квадрат из шести железных полос дюймовой толщины. Решетка давала достаточно света, если бы выходивший из стены под кровлей большой квадратный брус не препятствовал ему. Обойдя свое новое жалкое обиталище, в котором надобно было наклонять голову, ибо высота потолка не превышала пяти с половиной футов, я почти на ощупь определил, что оно собой представляло три четверти квадрата две на две сажени. Четвертая часть оного образовывала как бы альков для кровати. Однако же не было ни кровати, ни стола, ни стула, ни какого-либо иного предмета мебели, за исключением ведра, об употреблении которого читатель легко догадается, а также прикрепленной к стене в четырех футах от пола однофутовой доски. На нее я положил свой шелковый плащ, праздничный кафтан и шляпу с красивым белым пером, отороченную испанскими кружевами. Стояла непереносимая жара. Я устроился, опершись на локти, возле маленькой решетки, через которую можно было видеть освещенный слуховым окном чердак. По нему непринужденно разгуливали крысы ужасающей величины и без малейшего страха подходили к самой решетке. Сие отвратительное зрелище принудило меня поспешно закрыть решетчатое отверстие в двери на внутреннюю заслонку, ибо одна только мысль, что они могут проникнуть ко мне, леденила кровь. Я впал в какое-то полубессознательное состояние и целых восемь часов недвижимо простоял, опершись на решетку.
Только со звуком колокола, который пробил на башне двадцать один час[87], я начал приходить в себя и ощутил некоторое беспокойство, видя, что не несут мне еды, равно как и какой-нибудь мебели, дабы я мог улечься спать. По меньшей мере, как я полагал, должны были дать хотя бы стул, хлеба и воды. Есть мне не хотелось, но ведь они не знали этого. Во рту у меня была превеликая сухость и жжение. Впрочем, я не сомневался, что к концу дня кто-нибудь появится. Однако же, когда пробило двадцать четыре часа, меня охватила ярость, я принялся стучать, топать ногами и кричать изо всех сил. Так продолжалось более часа. Наконец, не видя ни малейшего знака, что хоть кто-нибудь слышит меня, уже в полной темноте, свалился я на пол. Подобное забвение казалось мне противуестественным, и я уже решил, что варвары-инквизиторы приговорили меня к смерти. Но, исследуя самым тщательным образом все свои дела и поступки, не обнаруживал я ничего, что могло бы дать к сему хоть какое-либо основание. Я отличался распущенностью, страстью к картам и не сдерживал себя в словах. Меня интересовало только то, как бы извлечь из жизни более наслаждений. Но во всем этом не усматривал я ничего похожего на государственное преступление.
Мой крепкий организм нуждался во сне, и сия главенствующая потребность заставляла умолкнуть все прочие, благодаря чему и можно именовать сон благодетелем человеков.
Разбудил меня полуночный бой часов. О, сколь ужасно пробуждение, заставляющее сожалеть о фантомах забытья! Я протянул правую руку, чтобы достать платок. О боже! Пальцы мои коснулись какой-то другой руки, холодной как лед! Ужас пронзил меня с головы до ног, и волосы встали дыбом.
Никогда в жизни не только не испытывал я столь безумного страха, но и не предполагал оный для себя возможным. Три или четыре минуты оставался я как бы в небытии, не только что не в силах пошевелиться, но и лишенный употребления мыслительных способностей. Немного придя в себя, принялся я рассуждать, что сия рука есть лишь плод моего потрясенного воображения, и, подкрепленный таковою надеждою, сызнова протянул свою руку, но та рука была на том же месте. Содрогаясь от ужаса, издал я пронзительный крик.
Когда снова обрел я некоторую способность к рассуждению, то предположил, что за время моего сна принесли сюда мертвое тело. Я был уверен, что прежде его не было.
«Наверно, это какой-то несчастный, которого удавили, и хотят упредить меня об уготованной участи», – сказал я себе с отчаянием, обратившим ужас мой в ожесточение, и, дабы окончательно удостовериться, в третий раз потянулся к ледяной руке. Но, повернувшись, обнаружил вдруг, что это всего лишь моя другая рука! Омертвившись под тяжестью моего тела, которое прижимало ее к твердому полу, потеряла она теплоту, чувствительность и способность к шевелению.
Приключение сие, несмотря на некоторую комичность, отнюдь не развеселило меня. Напротив, в голову внедрились самые черные мысли. Я понял, что попал в такое место, где ложь выглядела истиной, а правда обманом, где алчущее воображение приносит разум в жертву или химерической надежде, или беспросветному отчаянию. Впервые в жизни, тридцати лет от роду, призвал я себе на помощь философию, все зачатки коей уже содержались в душе моей, но пользоваться которыми не имел я до сего времени надобности.
Полагаю, что большинство смертных до последнего своего часа так и не прибегают к помощи рассуждения, и сие проистекает отнюдь не вследствие недостаточности разума, а лишь из-за отсутствия какого-либо сверхобыкновенного потрясения, необходимого для возбуждения мыслительных способностей.
В восемь с половиной часов глубокое безмолвие сего ада для живых было нарушено скрипом и шумом задвижек в коридорах, ведших к моей камере.
– Ну, удосужились придумать, какие вам надобны кушанья? – сиплым голосом прокричал мне в окошко тюремщик.
Я отвечал, что нужен рисовый суп, вареное мясо, жаркое, хлеб, вино и вода. Дурень был немало удивлен, что я, вопреки его ожиданиям, ни на что не жалуюсь. Он ушел, но через четверть часа возвратился и спросил, почему я не требую себе кровать и другую мебель. «Если вы думаете, что вас посадили сюда только на одну ночь, то сильно ошибаетесь», – присовокупил он. Я написал ему, куда пойти, чтобы взять для меня рубашки, чулки и другие пожитки, а также кровать, стол, стул, отобранные книги, бумагу, перья и прочее. Когда я прочел ему сей перечень, так как дурень не умел читать, он сказал:
– Вычеркивайте, сударь, вычеркивайте. Вычеркивайте книги, бумагу, перья, зеркало, бритву. Здесь все это запретный плод. И дайте мне денег для вашего обеда.
У меня было три цехина, я отдал один. Он удалился и три часа провел в коридорах, занимаясь, как я потом узнал, с семью другими узниками, сидевшими в удаленных друг от друга камерах.
К полудню тюремщик мой явился в сопровождении пяти стражников, которые принесли нужную мебель и обед. Кровать поставили в альков, а кушанья на маленький столик. Куверт мой состоял из купленной на мои деньги костяной ложки. Вилки, ножи и всякие режущие предметы были запрещены.
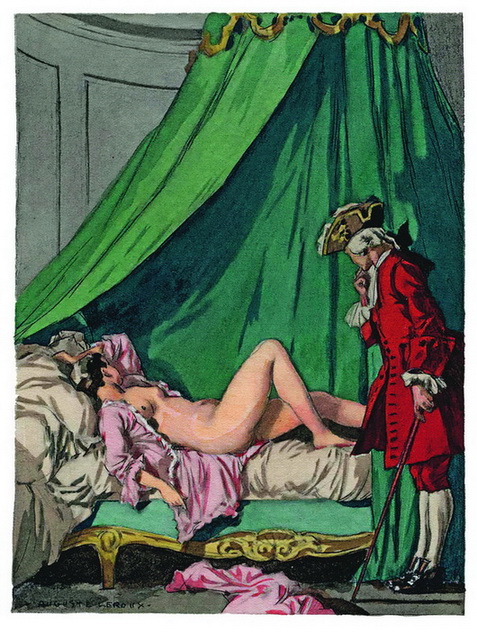
– Заказывайте, что вы желаете на завтра. Я прихожу сюда один раз в день с восходом солнца. Светлейший синьор секретарь велел мне сказать, что пришлет вам дозволенные книги, а те, которые вы просили, не разрешены.
– Поблагодарите его за ту милость, что меня держат в одиночестве.
– Желание ваше я исполню, но вы напрасно позволяете себе подобные насмешки.
– Я ничуть не смеюсь, ибо лучше быть одному, чем с теми негодяями, которых здесь содержат.
– Что вы, сударь, с какими негодяями? У нас только порядочные люди, которых, однако, надобно удалить от общества по причинам, известным их превосходительствам.
После ухода тюремщика я поставил стол ради большего света к отверстию в двери и уселся обедать, но смог проглотить лишь несколько ложек супа. Неудивительно, ведь, пропостившись сорок восемь часов, я чувствовал себя больным. День я провел, сидя в кресле, уже спокойный, и приготавливаясь к чтению милостиво обещанных мне книг. Всю ночь нельзя было сомкнуть глаз из-за ужасной возни крыс и оглушающего боя часов на Святом Марке, которые, казалось, переместились в мою камеру. Впрочем, сия двойная мука была отнюдь не самой нестерпимой из уготованных мне, и я сомневаюсь, смогут ли многие из моих читателей воистину понять, что такое тысячи блох, с вожделением высасывающих кровь изо всех частей моего тела. От их непрестанных укусов у меня начались спазмы и конвульсии.
На рассвете пришел Лоренцо (так звали моего тюремщика), чтобы прибрать мою постель и подмести, а один из его подручных подал мне воду для умывания. Я хотел пройти на чердак, но Лоренцо не позволил этого. Он принес мне две большие книги, которые я воздержался открывать при нем, опасаясь выдать то негодование, каковое они могли возбудить во мне, и о чем сей соглядатай не преминул бы донести своим хозяевам. Он ушел, оставив мою еду и два нарезанных лимона.
Я поторопился съесть суп, пока он совсем не остыл, а потом, взяв одну из книг, подошел к слуховому окну и убедился, что смогу читать. На титульном листе значилось: «Град мистический сестры Марии по имени д’Аграда». Вторая книга принадлежала иезуиту Каравите. Сей ханжа измыслил какое-то новое «Поклонение Святому Сердцу Господа нашего Иисуса Христа». Из всех человеческих членов нашего Божественного Посредника сей сочинитель посчитал именно сердце достойным преклонения – мысль невежественного безумца. Чтение этой книги вызвало у меня отвращение с первой ее страницы, ибо я не видел никакой разницы между сердцем, легкими, желудком и прочими органами. «Град мистический» отчасти заинтересовал меня, вследствие потребности хоть чем-нибудь заняться. Я провел целую неделю над этим перлом поврежденного рассудка.
Дней через девять или десять все мои деньги кончились. Когда в очередной раз Лоренцо спросил их, я отвечал:
– У меня больше ничего нет.
– К кому мне идти?
– Ни к кому.
Сему жадному и невежественному болтуну более всего не нравились моя молчаливость и лаконизм.
На следующий день он объявил, что трибунал определил мне по пятьдесят грошей[88] на день, а его самого назначил попечителем сих денег, о коих он будет давать отчет каждый месяц, а остаток тратить по моему желанию.
– Ты будешь приносить два раза в неделю «Лейденскую газету».
– Это запрещено.
Семидесяти пяти ливров[89] в месяц было для меня более чем достаточно, ибо я уже не мог есть вследствие великой жары и истощения нервов. Солнечные лучи превращали мою темницу в духовую печь, пот заливал пол по обе стороны от стула, на котором я сидел совершенно голый.
Уже пятнадцать дней мучился я в этом аду, и за сие время желудок совсем отказывался действовать. Наконец природа взяла свое, и мне показалось, что настал мой последний час. Геморроидальные вены вздулись, и прикосновение к ним вызывало непереносимые боли. Именно после этого развилась во мне сия жестокая немочь, от которой я так и не смог излечиться.
К началу сентября я вновь чувствовал себя совершенно здоровым, и досаждали лишь сильная жара, насекомые и скука.
Однажды Лоренцо сказал, что мне разрешено выходить из камеры для мытья, пока убирают постель и метут пол. Я воспользовался сей милостью, чтобы совершать десятиминутную прогулку, а поскольку ходил я с большим шумом, крысы не осмеливались выходить. В тот же день Лоренцо сделал отчет в трате моих денег. Он оказался должен тридцать ливров, каковые мне не дозволено было положить в свой карман. Я велел ему служить мессы, не сомневаясь, что деньги будут употреблены совсем на другое. Так повторялось каждый месяц, и Лоренцо никогда не приносил мне расписок за отслуженные мессы. Он совершал таинства в кабачке и был прав: по крайней мере, деньги хоть кому-то послужили на пользу.
Так я и жил ото дня ко дню, каждый вечер льстя себя надеждой, что следующее утро принесет мне свободу. Однако же, всякий раз обманываясь, решил я в своей бедной голове, будто сие должно непременно произойти первого октября, когда начиналось правление новых инквизиторов. В соответствии с сим превосходным вычислением заключение мое должно было продолжаться, пока у власти остаются прежние инквизиторы; именно этим объяснял я себе то, что ни разу не увидел секретаря, которому надлежало бы допросить меня, уличить в преступлениях и объявить мне приговор. Но под Свинцом таковое рассуждение совершенно ложно, ибо здесь все делается противу естественного порядка. Я придумал, будто инквизиторы должны признать мою невиновность и свою несправедливость и держат меня в тюрьме лишь для формы и ради собственной репутации. Отсюда заключил я, что они дадут мне свободу, когда сложат скипетр своей чудовищной власти. Дух мой покоился в столь совершенной безмятежности, что я чувствовал себя способным простить им и забыть нанесенные мне обиды. «Каким образом эти господа, – думал я, – отдадут меня на милость своих преемников, коим не могут они представить ничего достаточного для моего обвинения!»
Я почитал невероятным, что возможно вынести приговор и не объявить его мне. Но разве соизмерим здравый смысл с деяниями сего трибунала, который отличается от судов всего света своей неправедностью и произволом? Если инквизиторы занялись кем-нибудь, следовательно, он уже виновен, и зачем тогда знать ему приговор! Ведь согласия его не требуется, и они полагают, что несчастному лучше оставить надежду на будущее. Виновный никоим образом не должен участвовать во всем деле. Он подобен гвоздю, которому, чтобы войти в стену, надобны лишь удары молотка.
Последнюю ночь сентября я провел совсем без сна, с величайшим нетерпением ожидая нового дня. Вот сколь сильна была во мне уверенность получить свободу, ибо завершалось правление негодяев, лишивших меня оной. Однако же наступил день, явился, как обычно, Лоренцо и ничего не сообщил мне. Пять или шесть дней пребывал я в бешенстве и отчаянии, решив, что по непостижимым причинам приказано держать меня взаперти до конца дней. Ужасная сия мысль возбудила во мне смех, ибо я почитал в своей власти оставаться рабом лишь то недолгое время, пока под угрозою жизни не решусь прекратить мое заточение. Я не сомневался, что или смогу бежать, или погибну.
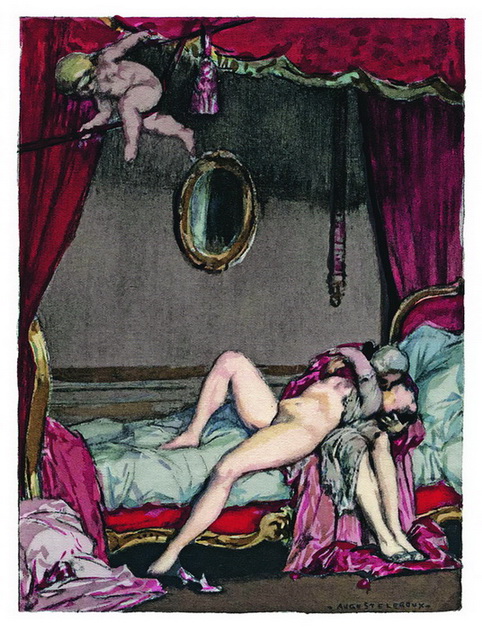
Дабы читатель мог представить себе мое бегство из-под свинцовой крыши, надобно дать понятие о расположении сего места.
Свинцовая крыша, сиречь тюрьма для государственных преступников, есть не что иное, как чердаки Дворца дожей. Свое наименование получила она по большим, устилавшим крышу свинцовым листам. Взойти туда можно лишь через вход во дворец или через описанный мною мост, который называют мостом Стенаний. В камеры есть ход только через залу собрания инквизиторов. Ключ хранится у секретаря, который дает его смотрителю рано утром на время, потребное для обслуживания узников.
Камеры выходят на два фасада: три с западной стороны, в том числе и моя, а четыре на восток. Западный карниз крыши расположен над дворцом, а противоположный – над каналом Рио-ди-Палаццо. С этой стороны камеры весьма светлые, и в них можно стоять не сгибаясь, чего не было у меня. Пол моей камеры располагался прямо над потолком залы инквизиторов, которые собирались только после заседания Совета Десяти, коего все трое были членами.
Единственный способ спастись, по крайней мере из всего, что я мог изобрести, заключался в том, чтобы пробить пол моей тюрьмы. Но для сего требовались орудия, добыть которые весьма затруднительно, ибо запрещались все сношения с внешним миром, как через посетителей, так и посредством переписки. На подкуп стражника надобно было много денег, которых я не имел. Если бы даже смотритель и оба стражника согласились быть удушенными мною, третий всегда стоял у входа на галерею возле запертой двери и отпирал ее лишь по команде. Но, несмотря на все препоны, мною владела одна только мысль о бегстве.
Я всегда был убежден в том, что, если человек не думает ни о чем другом, как о достижении поставленной себе цели, он исполнит свои намерения, невзирая на любые трудности: сделается великим визирем, самим папой или низвергнет монархию. Лишь бы он взялся за дело с умом, настойчивостью и не упускал времени, ибо по прошествии лет фортуна может оставить его, а без ее помощи надеяться ему не на что. Дабы преуспеть, должно полагаться на удачу и презирать опасности.
К счастью, меня не лишили получасовой прогулки по чердаку. Я принялся с большим вниманием высматривать все, что там находилось. В одном из ящиков лежали великолепная бумага, коробки с перьями и мотки ниток. Второй был заколочен. Внимание мое привлек кусок черного полированного мрамора дюймовой толщины и размерами шесть на три. Я завладел им, еще не зная, для чего он может пригодиться, и спрятал у себя в камере под рубашками.
В первый день 1756 года получил я новогодние подарки. Лоренцо принес мне халат на лисьем меху, шелковое ватное покрывало и медвежий мешок для согревания ног, все сие принял я с радостью, поелику стояла стужа, переносить которую было ничуть не легче, нежели августовскую жару. Через моего тюремщика синьор секретарь передал мне, что отныне я могу располагать шестью цехинами в месяц и покупать себе книги, а также получать газету. Это был подарок синьора Брагадино. Я спросил у Лоренцо карандаш и написал на листке бумаги: «Благодарю трибунал за щедрость, а синьора Брагадино за его добродетель».
Надобно оказаться в подобном моему положении, дабы восчувствовать все то, что сие происшествие пробудило в душе моей. Первым порывом моих чувствований было прощение моим мучителям, и я чуть ли не решился оставить свой замысел бегства. Вот сколь податлив человек, угнетенный и униженный несчастием. Лоренцо поведал мне, что синьор Брагадино явился к инквизиторам и на коленях, со слезами просил их передать мне, ежели нахожусь я еще в числе живущих, сии свидетельства его неизменной любви, в чем они не могли ему отказать.
Я тут же написал титулы потребных для меня книг.
Как-то раз, прогуливаясь по моему чердаку, приметил я лежавший в стороне засов, и вдруг пришло мне в голову, что это превосходнейшее защитное и наступательное оружие. Я схватил его и, спрятав под халат, унес к себе в камеру. Когда тюремщики ушли, достал я упоминавшийся уже кусок черного мрамора и сообразил, что это превосходный точильный камень. Поработав на нем некоторое время с моим засовом, я преизрядно его заострил.



