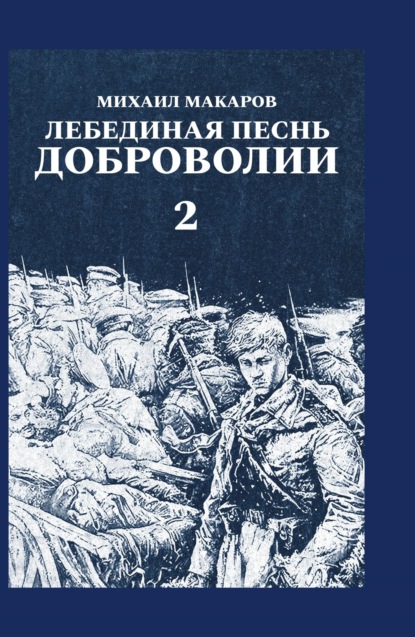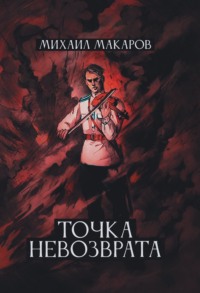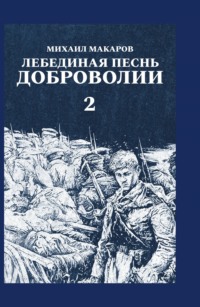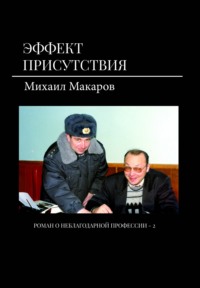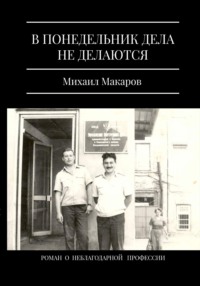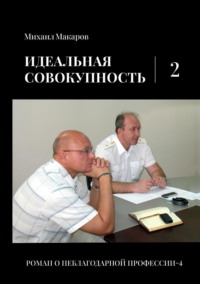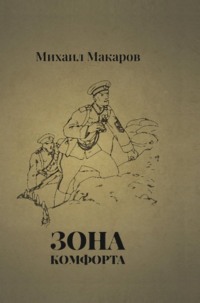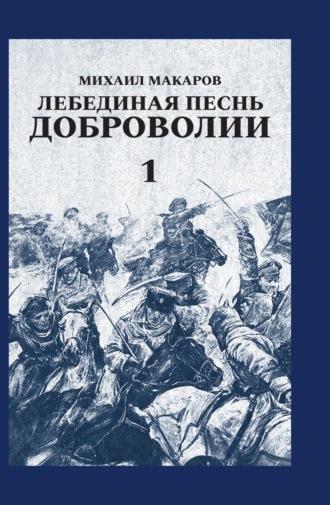
Полная версия
Лебединая песнь Доброволии. Том 1
– Разрешите, ваше превосходительство? К вам начальник Корниловской ди…
Доклад прервал полковник Скоблин. Распахнув дверь, он технично обогнул адъютанта и предстал перед Мамантовым.
– Ваше превосходительство, вопрос безотлагательный! – бросил к папахе ладонь, облитую хромовой перчаткой.
– Чем обязан? – генерал насупился, недовольный бесцеремонностью посетителя.
– Ваше превосходительство, Корниловская дивизия по приказу генерала Кутепова прибыла для содействия вашему корпусу в овладении Новочеркасском! – Скоблин отчеканил без запинки, но в его звенящем голосе и напряженной стойке угадывалось волнение.
– Какой смысл возвращать Новочеркасск, когда сдан Ростов? – резонный вопрос был задан Мамантовым с горькой усмешкой.
– Ростов в наших руках, – ответ последовал молниеносный.
– Э-э-э…но по моим сведениям, – начав выстраивать сложную фразу, генерал с ужасом осознал, что, судя по всему, он попался на удочку.
Слух о падении Ростова донцами не проверялся. Возможно, это была дезинформация, намеренно подброшенная красными.
Умолкнув на полуслове, Мамантов переваривал услышанное, обдумывая линию дальнейшего поведения. К вундеркиндам типа Скоблина он относился пренебрежительно.
«Скороспелый продукт школы прапорщиков, по недоразумению вознесшийся в полковничий чин! Не получив качественного военного образования, не зная службы, традиций… И он не просто полковник… Ничтоже сумняшеся[93] он набрался наглости начальствовать над целой дивизией! Какие тактические решения может родить его полудетский мозг?»
Генерал ошибочно причислял Скоблина к выпускникам школы прапорщиков. Корниловец окончил полный курс Чугуевского юнкерского пехотного училища, куда поступил до войны. Узнай Мамантов данный факт, мнение его осталось бы прежним. Он оставлял за выскочкой Скоблиным право командовать ротой, не более. По возрасту корниловец был ровно вдвое моложе Мамантова, в октябре отпраздновавшего пятидесятилетний юбилей.
Выработав позицию, генерал привычным жестом расправил на стороны свои замечательные усы и решительно заявил, что генералу Кутепову он не подчинен.
– Разве в этом дело?! – с досадой воскликнул Скоблин. – Нужно спасать Новочеркасск, и я полностью в вашем распоряжении!
Молодой полковник тщился достучаться до совести старого вояки. Судя по реакции, частично это ему удалось.
– Половина моего корпуса уже на том берегу. Я не могу вернуть казаков обратно, – признался Мамантов смущённо.
Возникла пауза, в ходе которой генерал, казалось, колебался в выборе решения.
– Брать Новочеркасска не буду! – в итоге рубанул он, пятнисто багровея.
– Прошу вас переговорить по прямому проводу с генералом Кутеповым, – Скоблин настаивал на своём.
– Повторяю, полковник, я Кутепову не подчинен, – раздражаясь от упрямства корниловца, Мамантов набычился.
– Тогда, ваше превосходительство, прикажите соединить непосредственно со Ставкой главкома.
Второй раз за считанные минуты генерал замялся. Благодаря нахрапистости Скоблина важный разговор происходил при открытой двери. Его невольными свидетелями стали адъютант и офицер связи. В преданности адъютанта Константин Константинович не сомневался, а вот прикомандированный связист был тёмной лошадкой. Неизвестно, что он покажет, если вдруг начнётся дознание.
– Хорошо, – нехотя согласился Мамантов.
Дежурный генерал Ставки подтвердил приказ Кутепова. Выслушивая говорливого собеседника на другом конце провода, Мамантов терзал пушистый ус и всё больше мрачнел. Ответную тираду он выдал в резкой форме.
– Я уже объяснил полковнику Скоблину, в чём дело. Добавлю, что опасаюсь оттепели и порчи переправ. В случае неудачи погублю весь корпус, цвет Дона. Посему категорически заявляю – брать Новочеркасск не могу!
Скоблин, внимавший каждому слову казачьего генерала, плотоядно ощерился. В нижней челюсти корниловца обнаружилось отсутствие одного резца. Вкупе с хищными повадками это делало его похожим на дерзкого архаровца[94], каковым в глубине души он, собственно, и являлся.
Закруглив неприятный разговор со Ставкой, Мамантов объявил, что должен следовать за своим корпусом. Столичный казак не знал Донской области, сюрпризы погоды его страшили, их последствия рисовались в преувеличенном виде. Скоблин, исчерпав все возможности удержать конницу, тяжело молчал, кусая губы и теребя пальцами георгиевский темляк наградной сабли. Сделав усилие над собой, он попросил у Мамантова разрешения воспользоваться его линией связи.
– Хочу выяснить у своего командования, что мне теперь делать.
– Аппаратная в вашем распоряжении, – гостеприимный жест демонстрировал, что генерал-лейтенант не опустится до сведения мелочных счётов.
Телефонной связи со штабом Добровольческого корпуса не было, но телеграфная наличествовала. Наудачу к проводу подошёл сам генерал Кутепов.
Скоблин доложил о создавшемся положении. К этому времени Мамантов покинул здание, и корниловец мог не стесняться в выражениях. Интеллигентного вида прапорщик-телеграфист густо краснел, слушая резкие эпитеты в адрес казачьих военачальников.
Буквопечатающий аппарат Юза отрывисто застучал. Пришло в медленное движение колесо с выгравированными по окружности знаками алфавита, печатая их на узкой бумажной ленте. Полковник внимательно читал сообщение, которое телеграф выдавал без предлогов и местоимений.
«Николай Владимирович дай дивизии отдых возвращайся обратно Нахичевань. Новая задача дивизии оборонять подступы Нахичевани. На левом фланге будет Терская дивизия генерала Топоркова…»
– Александр Павлович, – Скоблин без паузы начал диктовать ответ, – я вижу по всему, что Ростова нам не удержать. Чтобы выгадать время для эвакуации города, вам достаточно имеющихся сил. Разрешите мне перейти за Дон здесь, в станице Александровской. Кроме этой переправы, другой нет до самого Ростова…
Дожидаясь ответа, Скоблин закурил. Сосредоточенно потягивая горький дым, он думал, что предложил оптимальный выход. Ростов можно было удерживать только в паре с Новочеркасском. Теперь коннице Думенко открыты ворота в тыл ростовского укреплённого района.
Кутепов продублировал своё приказание и объявил о конце связи.
Телеграфист начал собирать оборудование. Скоблин предложил ему папиросу, но юноша оказался некурящим.
– Когда ваше начальство, прапорщик, будет выспрашивать о том, чего я наговорил, не терзайтесь попусту. Вижу, лукавить вы не обучены. Говорите, что слышали. Моя репутация не пострадает.
Достав служебную книжку, полковник быстро написал распоряжение. С треском криво выдрал листок. Выскочил на крыльцо, протянул записку вестовому.
– Аллюр три креста[95]. Лети к нашим, отдай капитану Францу.
В авангарде дивизии находился малочисленный третий полк, которым временно командовал хорватский офицер-инвалид.
– А вы тута один останетесь, ваш высокоблагородь? – унтер понимал ответственность за начдива.
– Зачем? Эвон прапорщик с казаком, – Скоблин указал на копошащихся у повозки связистов. – Лети пулей, Терентий. Ничего со мной не случится, красные ещё далеко.
Вскоре Корниловская дивизия вошла в Александровскую. В сторону Новочеркасска было выставлено сторожевое охранение. Иззябшие ударники шустро рассосались по хатам. Грелись, кипятили воду, заваривали чай, обедали своими запасами. Те, у кого покрепче нервы, успели подремать, не снимая снаряжения.
Спустя два часа Скоблин вновь соединился со штабом корпуса, уже по дивизионному полевому телеграфу. Тревожить Кутепова полковник не стал. Вызвал начальника штаба корпуса генерала Достовалова. Подробно выспросил у него обстановку под Ростовом. Отдельно поинтересовался, остаётся ли в силе приказ комкора.
Достовалов тезисами обозначил положение на фронте. На левом фланге дроздовцы и конница генерала Барбовича отбили все атаки, перешли в контрнаступление и уже сами гонят противника. В центре Терская дивизия ликвидировала прорыв на своём фронте. И только на правом фланге, где корпус Мамантова самовольно бросил фронт, картина была безрадостной.
Последнее обстоятельство Скоблину, находившемуся на участке, открытом донцами, можно было не разъяснять.
Ответ Достовалова завершался фразой: «Приказание генерала Кутепова остаётся в силе».
Скоблин досадливо зарычал, чтобы не выматериться в присутствии большого числа подчинённых. Скомкав телеграфную ленту, швырнул её в угол и приказал начать движение вспять. Предчувствия полковником овладевали самые дурные.
13
26 декабря 1919 годаНахичевань-на-ДонуКорниловская дивизия выступила. В Нахичевань был выслан конный разъезд. Части шли в обратном порядке, теперь колонну венчал первый полк.
Рядовые ударники плохо понимали смысл лихорадочных метаний по Придонью. Многие сердились на пустую трату сил.
– Лучше б к обороне готовились!
Росла тёмная злость на казаков. Их уже не только Львов с Риммером чихвостили, а половина офицерской роты.
– Не понимаю, почему начальник дивизии не приказал арестовать генерала Мамантова! – громогласно возмущался взводный Каюм. – Прямая измена!
Пулемётчик Морозов тихонько, дабы не заслужить нового упрёка в красной пропаганде, зудел, что в РККА для командира любого ранга подобный финт неминуемо бы закончился расстрелом.
Мобилизованные мысленно радовались, что избежали кровопролития.
– Суммарно… кх-кх… путь до Александровской и обратно короче, чем от Нахичевани до Новочеркасска, – у Кипарисова, как всегда, была собственная логика.
Один лапоть прапорщик уже посеял, но со вторым расставаться не спешил.
– Какая-никая, а защита основной…кх… обуви…
Ретивая молодёжь – Сверчков, Арсений и им подобные – жалела, что бой за Новочеркасск сорвался. Мальчишки мечтали отличиться на поле сражения.
Штабс-капитан Маштаков помалкивал, не выходя из загадочного образа. Словно зная страшную тайну, он терзался мыслью, стоит ли открывать ларец Пандоры[96].
Разгулявшийся ветер с Дона порывисто бил ударников в спины, будто непрошеных гостей взашей выталкивал. Косо летели снежные заряды. Зловеще высвистывала позёмка, ровняя рытвины по обочинам тракта. Корниловцы нахохлились, скрючились, утеплялись, как могли. Все разговоры умолкли, движения стали скупыми. Бойцы экономили силы.
Скоблин ехал впереди офицерской роты, припав к запорошенной снегом гриве коня. В какой-то момент у полковника возникло ощущение, будто сквозь пургу он пробивается в одиночку. Оглянулся и обомлел. Безмолвная чёрная колонна, ползущая за ним, до боли напоминала похоронную процессию.
Обратная дорога обычно кажется короче. Сейчас это правило не работало. Конца и краю не предвиделось томительному движению. Вдруг в снежной мгле завиднелись всадники. Первые шеренги привычно взяли ружья наизготовку, но опустили, узнавая свой разъезд. Низенькая гривастая савраска, ходившая под начальником разведки Баранушкиным, была известна всему полку.
Разведчик чёртом подскочил к Скоблину. Его выдубленная ветрами физиономия имела непривычно смущённое выражение.
– Господин полковник, – удавленником просипел Баранушкин, – Нахичевань занята большевиками.
– Как – занята?! – обомлев на миг, Скоблин в следующую секунду взъярился. – Да вы пьяны, поручик!
– Никак нет, Нахичевань занята, – Баранушкин хрипел своё.
Прибабахнутый, с плавающим взглядом, потерявший голос, он действительно выглядел неадекватным.
– Быть того не может! Вам померещилось. Немедленно поворачивайте и проверьте, – обуздав эмоции, начдив заговорил в обычной своей манере – подчёркнуто спокойно, властно, с едва различимой усмешкой.
– Слушаюсь! – поручик вяло махнул рукой у виска, повернул и поскакал обратно.
За ним, перекрестившись, умчались разведчики – вольноопределяющийся Фокин, призовой стрелок, и разбойничьего вида кубанец Пащенко по прозвищу Кудеяр.
Скоблин знал Алёшу Баранушкина с Ледяного похода. Отчаянный малый, бессребреник, тот ни разу не замечался во вранье. Да и насчёт водки был аккуратен. Ума сроду не пропивал.
Полковнику стало стыдно, что он наорал на старого корниловца. Рефлексировать Скоблин не умел, но знал правило – командир обязан быть справедливым.
«При первой возможности извинюсь», – сделал зарубку в памяти и переключился на новую проблему.
Со стороны арьергарда, где шёл третий полк капитана Франца, послышалась яростная пулемётная стрельба. Объяснение этому напрашивалось одно – большевики из Новочеркасска догнали дивизию.
– Шире шаг, офице-ерская! – рявкнул Скоблин.
Авангарду надлежало скорее закрепиться на окраине города, пропустить полки, шедшие следом, став арьергардом, сомкнуть ряды и так причесать зарвавшихся «товарищей», чтоб у тех надолго отпала охота рыпаться. По крайней мере, до утра.
– Бего-ом арш! – донеслась следующая команда.
Корниловцы рванули наперегонки с повозками. Опять молчком, только сбивчивое дыхание, многоногий трудный топот, бряканье амуниции, шлепки вожжей по потным лошадиным спинам, храп…
Офицерская рота достигла Нахичевани. Равняя ряды, переводя дух, рукавами промокая сырые лбы, ударники втягивались в крайнюю улицу. Вразнобой застучали по булыжнику сапоги, защёлкали подковы. Полозья саней натужно скрипели, уродуясь о камни. Армянский городок выглядел мирно. Бледным светом делились фонари, в их мутных ореолах хаотично кружили белые «мухи».
У перекрёстка рота замедлила шаг. Впереди на мостовой валялись трупы. Распростёртую на боку лошадь отличала приметная масть, так называемая «дикая» – светло-жёлтая шерсть, длинная чёрная грива и хвост – вороная метёлка. Придавленный кобылой всадник разметал в стороны руки. Слетевшая со стриженой головы папаха укатилась аж на середину перекрёстка. Выпуклую скулу офицера разворотила пуля, из страшной раны торчал осколок кости.
– Наш разъезд перебили… – трагическим шёпотом высказал догадку Риммер.
– Поручик Баранушкин, – Белов опознал мертвеца.
Скомандовав «рота, стой», капитан отправил посыльного к начдиву. Быстроногий Сверчков не успел завернуть за угол, как на другом конце улицы из тьмы высунул угловатую морду бронеавтомобиль. Он походил на громоздкий брусок, склёпанный из грубых листов металла. Заднюю часть его венчала пара приземистых цилиндрических башен, из которых щерились курносые рыла «максимов». Чихнув карбюраторным двигателем, броневик бойко покатил вперёд, подпрыгивая на брусчатке. За ним, как цыплята за курицей, бежали пехотинцы. Станковые пулемёты загоготали хором, насквозь прошивая улицу свинцом. Офицерская рота в беспорядке хлынула назад.
То, что Нахичевань оказалась в руках врага, противоречило здравому смыслу. Откуда здесь было взяться красным?! Не с неба же они свалились! Скоблин, обладавший наибольшей оперативной информацией, предположил, что за те несколько часов, пока его дивизия возвращалась в город, на фронте разразилась катастрофа.
Так оно и было. Наличие у противника крупных конных масс позволяло им свободно гулять меж разрозненных очагов белой обороны. Нахичевань стремительно заняла четвёртая дивизия Оки Городовикова, а шестая дивизия Семёна Тимошенко ворвалась в Ростов. Оба соединения входили в состав конармии Будённого. Город праздновал Рождество, и появление красных некоторое время оставалось незамеченным гарнизоном и населением.
Впереди будёновской кавалерии двигались броневики «Остин-Путиловец». Их тяжёлые пулеметы выкашивали попадавшиеся мелкие подразделения добровольцев.
Корниловцы оказались между Сциллой и Харибдой[97]. Мосты в Ростове и в станице Александровской уже захватили красные. Сзади мощно напирала конница Бориса Думенко. Третий полк, пятясь, с трудом сдерживал её натиск. От разгрома бойцов капитана Франца спасали глубокий снег и ранние декабрьские сумерки. Противник давил по тракту, не решаясь обходить по целине.
Для большевиков столкновение с крупной воинской частью белых также оказалось неприятным сюрпризом. «Максимки» из башен броневика поливали наобум. Корниловцы отделались тремя легкоранеными. Схоронившись за домами, ударники в ответ палили из-за углов. С минуты на минуту ждали свою артиллерию.
Подлетели лёгкие сани, запряжённые резвой лошадкой. В них, держась за борт, на корточках сидел командир первого полка Гордеенко. Он высигнул из санок на полном ходу, только полы шинели взметнулись и опали крыльями. Козырнув, полковник предстал пред Скоблиным. Молодые отцы-командиры, порывисто жестикулируя, искали выход из ловушки. Судя по отсутствию распоряжений, тщетно.
Тем временем штабс-капитан Маштаков боком продирался сквозь сгрудившихся за укрытием однополчан. Прямо-таки толпа, а не офицерская рота, и реакция у неё соответствующая.
– Куда прёте, как медведь?!
– Осторожней со штыком, шляпа!
Приблизившись к начальству, Маштаков выкрикнул, обращаясь к Скоблину, который в этот момент удачно обернулся в его сторону.
– Господин полковник, здесь, это самое, понтонный мост через реку!
Начдив обладал отличным слухом и завидной реакцией. По-собачьи лязгнув челюстью, он радостно оскалился. Над верхней губой полковника встопорщились чёрные стрелки усов.
– Времянка! Ай, молодчага, капитан! Офицерская за мно-ой!
Скоблин во главе роты бросился к реке. Бежали гурьбой под откос, в сутолоке главной заботой было не споткнуться. Упадёшь – затопчут задние.
Тёмный дощатый настил, дугой соединивший берега Дона, контрастно выделялся на фоне заснеженного льда. Местные жители называли его «Таганрогский мост».
На противоположном пологом берегу суетилась кучка людей. Вероятно, они заметили катившийся с горы человеческий ком. Бабахнуло несколько выстрелов.
– Господин полковник! – не своим голосом заорал Львов, первым достигший настила. – Они солому тащат! Мост поджигать!
– Вперёд! – Скоблин взбежал на переправу.
Корниловцы ураганом пронеслись по мосту. Яростная дробь двух сотен сапог заставила жидкий настил ходить ходуном. Добежав до цели, ударники разметали горящую солому и с руганью набросились на поджигателей, оказавшихся мамантовцами. Командовавший ими бородач хорунжий растерянно оправдывался.
– Господин полковник, мы ж думали – краснюки! Да, рази ж мы стали б в своих пулять?
К переправе вереницей устремились подводы и артиллерийские запряжки. Скоблин лично регулировал движение, запуская на мост одновременно не более двух повозок и устанавливая между ними дистанцию в двадцать саженей[98]. Потом по зыбкому настилу пошла пехота.
Второй Корниловский полк, задерживая врага, принял уличный бой, куда более непредсказуемый и жестокий, чем любое сражение в чистом поле. Пули сыпались отовсюду – из-за углов домов, из подворотен, из чердачных окон, с крыш. Остроконечные кусочки свинца в мельхиоровой облатке, деформируясь при рикошете от камня фасадов и мостовой, наносили жуткие раны. В тесноте улиц невозможно было оценить силы противника и развернуться для контратаки. Фланги как таковые отсутствовали, завладевшие инициативой красные просачивались дворами, били в спину.
Сёстры милосердия не успевали перевязывать раненых. Лена Михеева, слабая после тифа, быстро выбилась из сил. Присев на снег возле прапорщика, поймавшего пулю в бедро, она с трудом смогла расстегнуть на нём брюки и спустить их до колен вместе с кальсонами. Тщилась остановить ручей артериального кровотечения. Офицер был в сознании, стыдливо прикрывал пах, потом он вдруг засучил ногами и затих. У отвыкшей от подобных шоковых сцен Лены защипало в глазах.
Жанна Баранушкина, стоя на коленях, бинтовала голову ударнику, лишившемуся мочки уха. Ранение было неопасным, но кровавым.
– Терпи… Ещё симпатичней стал! Кто б с тобой, лопоухим-то, под венец пошёл?
Оригинальная постановка вопроса рассмешила юношу, он затрясся всем телом. Жанна нервически булькала вместе с ним. О гибели мужа она ещё не знала.
К сёстрам с наганом в руке подбежал командир второго полка Пашкевич. Его костлявая физиономия имела недюжинное сходство с адамовой головой[99], изображённой на шевроне корниловцев. Благодаря ей полковник удостоился прозвища Эмблема.
– Барышни, уходим! – свирепо рыкнул Эмблема, помогая Михеевой подняться на ноги.
С левого берега картечью харкнула артиллерия добровольцев, охлаждая прыть наступающих. В ту же минуту двуглавое чудище «Остин-Путиловец», увлекшись стрельбой с господствующей позиции, неосмотрительно выехало на край берега и поползло по обледенелому скату, стремительно набирая скорость. Внизу броневик неуклюже завалился на бок. Пользуясь дарованной передышкой, заслон совершил отчаянный рывок через мост. И сразу в ход пошли солома с керосином, заготовленные казаками. Доски и брёвна настила с треском занимались огнём. Ветер услужливо поволок толстый шлейф дыма к правому берегу, застилая глаза советским.
Третьему полку ударников пробиться к переправе было не суждено, ему предстояло переходить Дон по льду.
14
26–27 декабря 1919 годаСтаница АлександровскаяФортуна отвернулась от третьего Корниловского полка в тот самый день, когда от должности его командира со скандалом был отрешён есаул Милеев. Гордец, пьяница и бузотёр Милеев, помимо незаурядных организаторских качеств, обладал волчьим чутьём, позволявшим избегать капканов, расставленных судьбой на тропе войны. Его преемники таким талантом не обладали.
В конце октября, уворачиваясь от удара Эстонской дивизии, третий полк угодил в засаду и подвергся настоящему избиению в селе Заболотном. Затем понёс большие потери под Обоянью. После череды боёв часть истаяла до сотни штыков и была сведена в батальон. Кое-как пополнившись, полк вновь получил самостоятельную задачу на отшибе дивизии. И едва не погиб, окружённый в Мохначанских лесах северо-восточнее Змиёва. Прорваться удалось всего восьмидесяти шести ударникам, которые вынесли знамя части.
Остатки полка отправились на станцию Харцызск для пополнения. Туда вскоре прибыл запасной батальон, а на следующий день подоспели две роты, ранее выделявшиеся для охраны Харьковского железнодорожного узла. Полк вновь развернулся в три батальона и пулемётную команду.
Ситуация развивалась так, что назначенный вместо Милеева капитан Щеглов второй месяц не вступал в фактическое командование полком. Он обосновался в тылу, замкнув на себя проблемы формирования и снабжения части. Такой расклад, абсолютно нетипичный для корниловцев, выглядел странно. Удивляла и позиция начальника дивизии, который не торопил Щеглова на фронт.
Боевым ядром третьего полка временно руководил капитан Франц, являвшийся в стане ударников фигурой весьма неординарной. Хорват из Загреба, доброволец двух войн, он был ранен семь раз и оставался в строю. Правую руку капитана заменял протез, носимый на перевязи. Простреленная левая рука слушалась его не вполне. Ходил он с палкой, сильно припадая на искалеченную ногу. Смелость Франца в бою выглядела настолько естественной, что не отличалась от его обыденных поступков.
Однако при всей своей фантастической храбрости и дисциплинированности капитан Франц был негибок. Он умел лишь добуквенно исполнять приказ. Кругозора в вопросах тактики капитану недоставало. Негативную роль играло также слабое знание им русского языка. Его речь изобиловала малопонятными словами старославянского происхождения.
Зато в недостатке стойкости Франца было не упрекнуть. Долгие шесть часов его полк отбивал атаки превосходящих сил противника. Ближе к полуночи порыв конницы Думенко иссяк, она отошла в станицу Аксайскую. Самое время было перевести дух ударникам, но тут замаячили разъезды со стороны Нахичевани, захваченной будёновцами.
На фоне бескрайнего снежного покрова всадники казались фигурками, по контуру вырезанными из чёрного картона. Ветер стих, улеглась незаметно пурга. В проясневшем небе звёзды устроили иллюминацию. Они перемигивались и казались живыми в сравнении с плоской половинкой луны, мерцавшей чахло-лимонным фосфорическим свечением.
Отупевшие от усталости, голодные корниловцы карабкались на железнодорожную насыпь, откуда гуськом спускались на лёд. Переправа прошла без проволочек. Обоз, обуза полка, без которой никуда, перебрался на другую сторону Дона заблаговременно.
Франц со своим немногочисленным штабом дожидался подхода пулемётной команды, сыгравшей в сегодняшнем бою партию первой скрипки. Пулемётчиками командовал побратим Франца словенец Александр Трушнович, тоже капитан.
– Уходите брзо[100], большевик догоняет! – Трушновича возмутил ненужный риск товарища, которого он окрикнул по-хорватски. – Игнатий, что ты сидишь, как пень?! Они уже здесь!
Франц беспечно пощипывал фатовские[101] смоляные усики, казавшиеся приклеенными к верхней губе. Обоснованная тревога пулемётчика вызвала у него усмешку, совершенно непонятную. Медленно поднявшись, Франц похромал к своей лошади. Глядя на него, оторвали зады от борта повозки и остальные штабисты.
Трушнович решил подыскать позиции для своих пулемётов. В любую минуту большевики могли попытаться перескочить Дон, к их встрече следовало подготовиться.