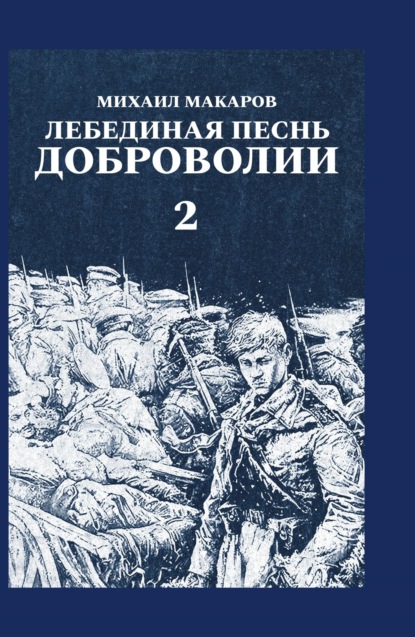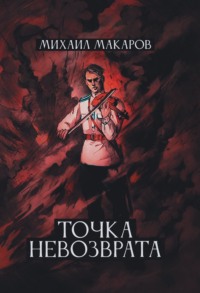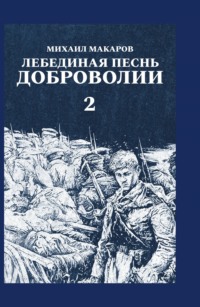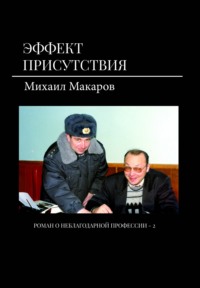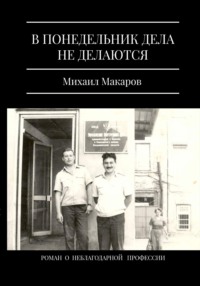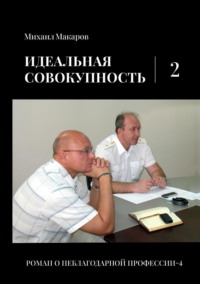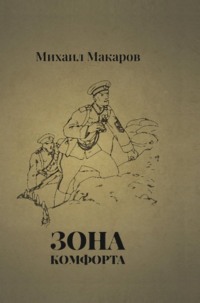Лебединая песнь Доброволии. Том 1
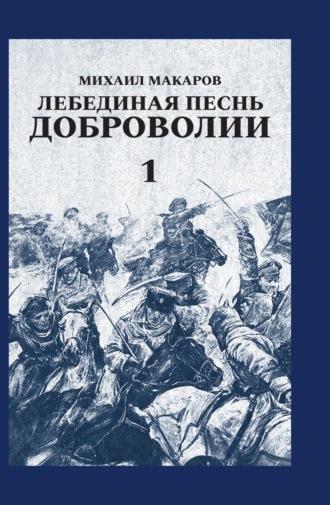
Полная версия
Лебединая песнь Доброволии. Том 1
Язык: Русский
Год издания: 2025
Добавлена:
Серия «Лебединая песнь Доброволии»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу