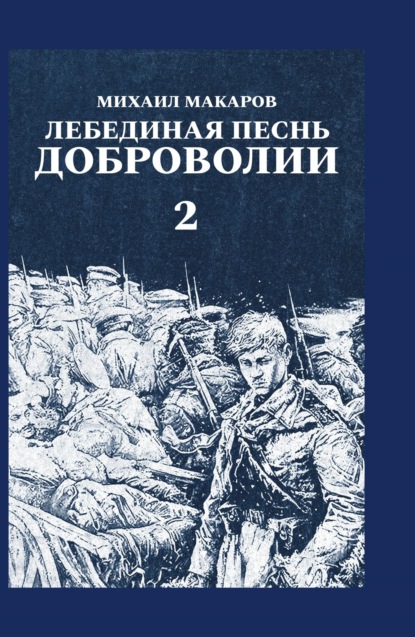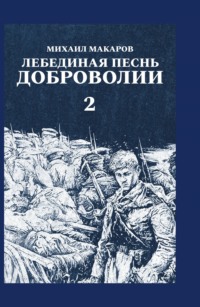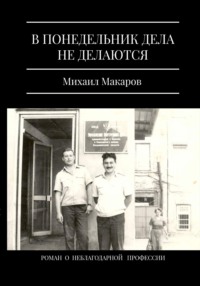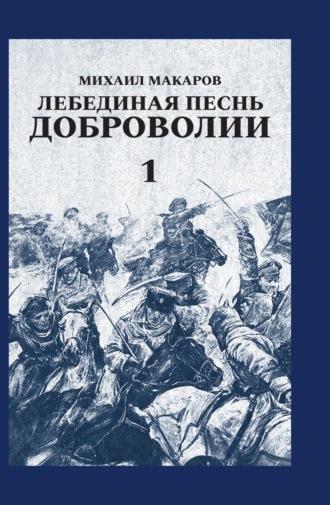
Полная версия
Лебединая песнь Доброволии. Том 1
– Не больше нашего, Миша, – седоватый Фридман, из присутствующих самый возрастной, участник четырёх войн, критику не поддержал. – Глянь лучше, э-э-э… какие у них лапы мозолистые. Как у пролетариев, прости Господи.
Фридман не сводил глаз с огрубелых ручищ Портера, в которых тонули столовый нож и вилка.
– Хм, главное, чтоб они с пролетариями других стран не вознамерились соединиться, – Ройбул-Вакаре выдал сомнительную остроту, к счастью, никем, кроме Фридмана, не услышанную.
Портер старательно прожевал мясо, отодвинул тарелку и спросил про цвета дроздовской формы.
– Почему crimson… малиновый и белый?
– Малиновый – традиционный цвет стрелковых частей Императорской армии, – объяснил Туркул. – Ещё он символизирует отблеск боёв, через которые мы прошли из самой Румынии.
Любознательность так и распирала лейтенанта Портера. Следующий вопрос он предварил извинениями на случай, если кого-то обидит.
– Почему в белой армии, которая воюет за Русь святую, так много офицеров иных национальностей? Например, здесь собрались господа, – он обратился к блокноту с записями, – Туркул, Фридман, Ройбул, Петерс. Традицию, по которой русскими командуют иноземцы, установил ваш царь Пётр Первый, не так ли?
Дроздовцы опешили. Вопрос попался из разряда каверзных. Предположив, что его не поняли, дотошный Портер стал уточнять применительно к конкретным персонам.
– Вот господин капитан, – привстав, лейтенант коснулся манжеты сидевшего напротив Ройбул-Вакаре, – чернобровый жгучий брюнет. В его жилах явно течёт румынская кровь.
– Господин полковник, я ещё раз извиняюсь, – последовал короткий жест в сторону Туркула, – обладает наружностью южного славянина родом с Балкан.
Следующая реплика англичанина адресовалась насторожившемуся Фридману:
– Почтенный Александр Карлович, по всей видимости, имеет немецкие корни.
– А в вашем лице, коллега, просматриваются азиатские черты, – лейтенант обратился к Петерсу.
– И только господин капитан, который весь вечер таинственно молчит, – заключительный пассаж был предназначен Тихменёву, – похож на славянина.
– Какого чёрта?! Наш дворянский род один из самых старинных в Бессарабии! – возмутился Ройбул-Вакаре.
Похоже, он плохо уразумел суть длинного монолога Портера. Опьянел комбат‐2 уже изрядно.
Туркул, будучи не силён в дискуссиях, молча пощипывал смоляные усики.
Петерс достал кожаный портсигар, распахнул его, вынул папироску, дунул в мундштук, подкурил. Всё сделал за считанные секунды, после чего портсигар отправился обратно в карман. У капитана имелся пунктик насчёт папирос. Постоянно располагая запасом отборных табаков, он никогда не угощал сослуживцев. Редкие исключения делались для командира полка.
– Э-э-э, я хоть и немец по происхождению, однако христианин, а не лютеранин, как мой отец. И ни слова не знаю по-немецки, – Фридман отчего-то вздумал оправдываться.
– Минуточку, господин полковник, – мягко прервал его Петерс, держа дымящуюся папироску на отлёте. – Разрешите, я пару слов вставлю. Во мне точно течёт кровь немцев, татар и латышей, а ещё каких-нибудь древних кривичей[63]. Гремучая смесь… При этом я чистокровный русак. Россия – огромная плавильная печь, которая плавит всех, кто в ней оказывается. Мы любим свою Родину, которую нынче истязает чернь, и проливаем за её свободу и честь нашу кровь. Русскую кровь. Я понятно выразился?!
Портер кивнул, показывая, что ответом удовлетворён, и выпалил:
– За русских патриотов, верных союзническому долгу!
На сей раз ему пришлось выпить большую рюмку водки.
– А то надоел умничать, – бормотнул Ройбул-Вакаре, пока лейтенант, перекривившись, закусывал пирожком с капустой.
Тосты не иссякали. Атмосфера делалась всё более приятельской. Усач Ройбул-Вакаре уже троекратно расцеловался с осоловевшим капитаном Коксом. Полковник Фридман клялся в вечной любви к Великобритании, к королю Георгу и персонально к лейтенанту Портеру.
– До чего ж ты башковит, парень! Где вот ты только… э-э-э… личико подпортил?
Оглаживая щёку, стянутую глянцевой розовой заплаткой, лейтенант лепетал по-свойски. Захмелев, он одномоментно забыл язык Пушкина и Достоевского. Начал листать свой разговорник. Прижмурил один глаз, ткнул в страницу ноготь с чёрной каёмкой от въевшегося машинного масла.
– Ви хоти-те ме-ня под…под-по-ить? – прочёл по слогам.
– Прямо так и написано? – простодушно изумился Фридман. – Дай-ка гляну. Э-э-э… действительно! Ай, полезная книжица…
Когда офицерская компашка, увлекшись трёпом о женщинах, загудела, как улей, Туркул вышел из-за стола и незаметно покинул класс.
7
24–25 декабря 1919 годаРостов – Станция ГниловскаяНа станцию Гниловскую с оказией прибыли мать и беременная жена полковника. В преддверии неизбежной разлуки грех было упустить шанс свидеться, пусть и накоротке. Будущее окутал глухой мрак.
Грохоча сапогами, Туркул кубарем скатился с крутого крыльца. Его ожидали всадники – адъютант Елецкий и вестовой, державший за поводья осёдланную Гальку.
Елецкий тягуче зевал. Не смыкавший глаз почти трое суток, он пожертвовал ужином с англичанами ради пары часов сна.
– Не выспались, Нил Васильич? – подтрунил Туркул, ловя ногой стремя.
– Ещё больше разморило, – посетовал адъютант.
– Сейчас взбодритесь, – полковник перекинул ногу через круп лошади. – С Богом!
Дроздовцы рванули с места размашистой рысью. Рождественская ночь выдалась непроницаемой, луну со звёздами замуровали тучи. Хорошо ещё заснеженная степь помогала мутной подсветкой. С вечера погода повернула на оттепель. Сделавшийся рыхлым снег затруднял скачку. Мельтешащие копыта мягко причмокивали. Порывистый ветер раздавал наездникам хлёсткие пощечины.
Отринув военные заботы, полковник с волнением думал о предстоящем дорогом свидании.
Мать Софья Антоновна всегда была его оберегом. Живя сыновними помыслами, сделалась и соратником по Белой борьбе.
В ноябре семнадцатого года Туркул вернулся с развалившегося фронта в родной Тирасполь не один, а с девятью боевыми друзьями. Штабс-капитан был уверен – материнский дом в приюте не откажет. Тирасполь буйно митинговал, но Туркул сотоварищи принципиально не снимали погон. По улицам офицеры ходили вдесятером. У каждого в одном кармане таился наган с взведённым курком, в другом – ручная граната.
Месяц спустя Туркул объявил матери, что уходит в поход с полковником Дроздовским.
Софья Антоновна зарыдала. Её старший сын Николай лечился в Крыму после тяжелейшего ранения в грудь. Теперь вот младший, тоже весь израненный, собрался покинуть родительское гнездо.
– Я почти не видела вас. За что опять отнимают обоих?! У меня же не осталось больше сил. Я мать…
Туркул порывисто поцеловал её седеющую голову, разделённую строгой ниточкой пробора. Солдат, он не отличался красноречием. Как умел, начал убеждать, что убийцам и насильникам, подло захватившим власть, надо противопоставить честную человеческую силу. Иначе Россию и всё живое в ней замучают большевики.
Мать слушала, отвернувшись. Её плечи беззвучно вздрагивали. Когда она, наконец, обернулась, глаза её были потухшими, но сухими.
– Благословляю тебя, Тося. Обещай, что будешь беречь себя.
Туркул ушёл с дроздовцами, и для Софьи Антоновны потянулись мучительные дни неизвестности. Долгожданная весточка обожгла сердце. Сын, раненный на Кубани, находился в госпитале Новочеркасска. Мать немедленно собралась и ринулась на Дон через бурлящие новороссийские губернии.
Уверяя, будто рана пустяковая, Туркул лукавил. На месте открылось – серьёзно повреждена кость. Условия в госпиталях были отвратные, и Туркул проживал в гостинице с двумя однополчанами, тоже подранками. Софья Антоновна привезла крупную сумму денег, на которые сын с приятелями вместо лечения принялись напропалую кутить. Рана меж тем заживать отказывалась, возникла угроза гангрены. Потребовалось личное вмешательство начдива Дроздовского. Узнав о безалаберном поведении подчинённого, полковник командировал к нему своего адъютанта. Тот на казённом автомобиле доставил штабс-капитана в Ростов к знаменитому профессору Напалкову, сумевшему спасти молодому офицеру ногу, а возможно, и жизнь.
Мать вернулась домой в смятенных чувствах. Она не знала, что к этому времени в Ялте её старший сын был замучен пьяными матросами с крейсера «Алмаз». Почта работала скверно, в силу чего трагическое известие настигло её много позже.
Из Тирасполя Софья Антоновна перебралась в Одессу. Власть в портовом городе переходила из рук в руки. Когда он оказался под большевиками, Софья Антоновна продолжала внимательно следить за событиями на фронтах. В советских сводках фамилия Туркул употреблялась в обрамлении эпитетов, самыми мягкими из которых были «кровавый палач» и «белобандит». Софье Антоновне не верилось, что речь идёт о её послушном, честном и скромном мальчике…
Супружница Шурка в силу возраста смотрела на мир проще. Антоша виделся ей былинным витязем, сражавшимся с поганым Тугарином Змеевичем. А богатыри, как известно, неуязвимы для вражеских стрел и мечей булатных.
Юность, наивность и чистоту олицетворяла Шурка. Вместе с тем, любовь их с первых дней выдалась плотской, жадной.
Гордясь собою, Туркул усмехался мысленно: «Не вхолостую Шурка гостила летом у меня в Харькове! Понесла, бабонька, как миленькая. Скоро сына мне подарит. Непременно сына!»
Законная жена Шуркой была только в мыслях, да во время жарких любовных ласк. На людях Туркул величал её по имени-отчеству. Сперва делал это в шутку, незаметно в обычай вошло. Имелось в характере девушки нечто основательное, благодаря чему обращение «Александра Фёдоровна» уха не резало…
Давая Гальке передохнуть, полковник пустил её шагом. На условной линии горизонта в длинную цепочку растянулись мерцающие огоньки.
– Многовато иллюминации. А, Илья Афанасьич?! – Туркул обернулся к вестовому.
Стрелок растирал ладонью настёганные ветром щёки. Похрустывала щетина, жёсткая, как у кабана.
– Должно, правее взяли, господин полковник. К самому Ростову вышли.
– Что делать?
– Идти на огни. Там скумекаем.
Туркул доверился старому солдату. Далее скакали переменным аллюром[64]. Через полчаса достигли города. Окраинные тёмные улочки, будто вымерли. Решили ехать на железнодорожный вокзал, где жизни полагалось бурлить круглосуточно.
Вид ростовского вокзала потряс Туркула. Все отапливаемые помещения – залы ожидания, коридоры, багажные отделения – превратились в гигантский лазарет. Лежавшие на полу вповалку люди стонали, бредили, плакали, бранились, мычали жалобно…
Дроздовцы вошли в зал ожидания для пассажиров первого класса. В дальнем углу, тускло подсвеченном керосиновой лампой, угадывался санитарный пост. Пробираясь туда, военные осторожно переступали через разметавшиеся руки, раскинутые ноги. Как ни старались красться, всё равно беспокоили несчастных. Кого-то толкнули, на кого-то наступили.
Одуревшая от бессонницы и усталости сестра милосердия не могла взять в толк, что хочет от неё пышущий здоровьем офицер в малиновых погонах.
– Не зна-аю… Шли бы вы отсюда, господа… Тифозные тут…
Полковник инстинктивно шарахнулся к дверям. Вестовой, размашисто крестясь, поспешил за командиром.
– Боязно? – вопросом Туркул маскировал собственную суетливость.
– Свят, свят… Лучше в бою смерть принять, чем заживо гнить в этаких мучениях.
Дорогу выспросили у железнодорожника. Показалось, что отвечает тот с ехидной ухмылочкой. Ох, как подмывало Туркула одёрнуть путейца: «С кем говоришь, сволочь мазутная?! Смир-рна!» Гнев обуздал напоминанием о том, какая ночь сегодня и к кому на встречу они спешат.
Товарная станция Гниловская находилась близ одноимённой станицы, славившейся рыбным промыслом. Здесь стоял эшелон первого Дроздовского полка. Числясь по документам штабным поездом, состав выполнял более широкие функции. В условиях маневренной войны и отсутствия правильно организованного тыла в нём перевозилось ценное полковое имущество, в том числе боевая добыча. Каждая «цветная»[65] часть имела до десятка персональных эшелонов. При отступлении поезд удлинился за счёт теплушек, в которых нашли пристанище семьи «дроздов». Остаться на территории, занимаемой красными, они не могли. Чересчур велик был риск расправы.
Под насыпью с треском горел большой костёр. Косые рыжие языки пламени жадно лизали мрак. Целыми охапками в небо летели искры. Среди обступивших огонь фигур две оказались знакомыми.
Туркул соскочил с лошади на ходу. Повод швырнул вестовому. Сгрёб обеих сразу, благо длинных рук хватило.
Мать показалась сильно постаревшей. Под широкими фамильными бровями глубоко впали глаза. Растерянности в них было больше, чем привычной строгости.
Больше прежнего округлилась щекастенькая Александра Фёдоровна. Живот требовательно вздыбил заячью шубейку. Уже скоро совсем! На подходе наследник…
– Вы чего мёрзнете? – упрекнул Туркул своих дам.
– Не усидели в теплушке… Заждались, – Шурка пальцем теребила ямочку на каменном подбородке мужа.
– Пардон, мадам, – полковник шутливо повинился. – Торопился к рождественской звезде, ан не успел.
Властным тоном скомандовал вестовому:
– Фельдфебель, в теплушку!
Рослый стрелок взлетел в вагон одним махом. Придерживая мать за локоть, Туркул помог ей взойти по лесенке, сложенной из снарядных ящиков. Вестовой принимал Софью Антоновну. Шурку полковник взял на руки. Встав на носки, вручил драгоценную ношу солдату, припавшему на колено.
– Бережно, Афанасьич. Не расплескай!
Уселись вокруг печки, в которую расторопный вестовой подкинул пару поленьев. Половина вагона была отгорожена брезентом.
– Тс-с, – Шурка прижала палец к пухлым губам, – там Верочка Фридман спит.
У матери первейшая забота – накормить.
– Мама, да я сытый, – улыбался Туркул. – Только из-за стола. С англичанами разговлялся.
Софья Антоновна настаивала. Отказывать было нельзя, обидишь.
Расспросы зашуршали полушёпотом. Как дела, здоровье? Обменявшись семейными новостями, подступили к крупной теме. Что будет дальше со всеми нами?
– Ближайшие дни покажут, зацепимся ли за Дон, – Туркул дочиста отшлифовал зубами куриную грудку, принял у жены платок. – Благодарю… Как бы то ни было, собирайтесь, милые мои, в путешествие до города Новороссийска.
– Так далеко? – Шурка округлила чёрные глазищи.
– Екатеринодар, понятно, ближе, но на Кубани нам не рады.
– Ты ведь снова был ранен, Тося? – дрогнувшим голосом спросила мать.
– С чего ты взяла? – Туркул правдоподобно сыграл изумление. – Какой мерзавец пустил «утку»?
Он скрыл от родных, что в начале декабря пострадал в бою под Мерефой. Зачем волновать из-за царапины? Остроконечная русская пуля пронзила мякоть правой руки, расщепила приклад винтовки, разбила бинокль, угодила в серебряную иконку на груди, соскользнула с неё и, потеряв скорость, ударила под ложечку. Там застряла под кожей. Бабушкин образок сохранил полковнику жизнь.
– Томительно было на сердце, Тося. Совсем как в прошлый раз.
– Оно тебя обмануло, мам. Мы из-под самого Харькова драпаем без боёв. Нил Васильич, подтвердите, – Туркул призвал в свидетели адъютанта.
Елецкий, привалившись к стенке, тихонько посапывал. Объятия Морфея[66] спасли его от необходимости лжесвидетельствовать.
Нянча беспокойные материнские руки в своей пригоршне, полковник перевёл разговор на другое. Обсудили, где дамы устроятся в Новороссийске, какой доктор поможет Шурочке разродиться…
– Совсем с памятью плохо стало! – спохватилась Софья Антоновна. – А где Павлик? Обещал приехать ко мне на кутью, а сам…
Туркул помрачнел. Его двоюродный брат Павел, кадет Одесского корпуса, сухорукий после ранения, служил при штабе полка. Позавчера он погиб.
– Что-то случилось? – реакция сына насторожила Софью Антоновну.
Ложь во спасение давалась трудно. Врать о подобных вещах – тяжкий грех, но сейчас полковник оказался неготовым озвучить правду. Пришлось бы открывать обстоятельства мученической смерти юноши.
Красные партизаны перебрались в тыл к добровольцам по льду замёрзшего Азовского моря. Внезапным налётом они сцапали троих «дроздов», ехавших в краткосрочный отпуск в Ростов. Среди них находился Павлик. Ещё были две беженки, харьковские интеллигентки.
Белогвардейцев подвергли изуверским пыткам. Не пощадили бандиты и женщин, сотворив над ними коллективное надругательство. Потом всех пятерых голыми и ещё живыми утопили в проруби…
Мобилизовавшись, Туркул оборвал затянувшуюся паузу.
– Ну, какие, мам, сейчас побывки? Вот установится фронт, там посмотрим. А сейчас каждый штык на счету.
– Ты командир, тебе виднее. Хотя, какая от Павлика помощь? В семнадцать лет мальчик инвалидом сделался. Бедняжка…
Скрывая истину, Туркул лишил себя возможности сказать, что Павлик отомщён.
Узнав о трагедии, полковник тотчас организовал погоню и возглавил её. Банда была пленена почти в полном составе. Допрос производился на месте. Признание выбили прикладами. Тут же свершился правый суд. Ни одного упыря дроздовцы не оставили в живых. Туркул лично разрядил наган в бородатую харю атамана. Расстрелянных спустили под лёд кормить рыб…
Полковник смежил трепещущие веки, стиснул зубы. Упаси Бог, дать выход ярости, клокочущей внутри. Матушку с супружницей пугать нельзя. Даже когда наступит черёд рассказать им о гибели Павлика, страшные подробности останутся тайной.
«Для того и бредём по колено в крови, чтоб сберечь чистые души родных людей».
Прежнее приподнятое настроение улетучилось. Туркул отвечал невпопад. На его лице застыла угрюмая маска, жутковато смотревшаяся в багровых отблесках, рождаемых открытой топкой буржуйки.
Близкий грохот артиллерийской пальбы полковник воспринял, как уважительный повод завершить свидание.
Всю ночь канонада бубнила где-то в стороне Новочеркасска. Удалённая, она не пугала даже гражданских.
Теперь же загремело под боком, в той стороне, откуда прискакали дроздовцы.
– Пора! – не затягивая прощания, Туркул крепко обнял и расцеловал родных.
Застегнул шинель и портупею, натянул перчатки. Вестовой уже подводил к теплушке лошадей.
Полковник обидел Гальку резким ударом каблуков в брюхо. Унёсся, не оглянувшись.
8
25 декабря 1919 годаСело Мокрый ЧалтырьСеверный обвод Чалтыря защищал третий Дроздовский полк. Командовал им полковник Манштейн, у своих заслуживший прозвище Истребитель комиссаров, а у красных – Безрукий чёрт.
Биография идейного белогвардейца Владимира Манштейна до поры выглядела трафаретной. Окопы мировой войны, сражения, подвиги, награды, досрочное производство в следующие чины, ранения, контузии, потеря боевых друзей, растерянность после отречения Государя, шок от приказа № 1[67], перевод в ударную часть, неприятие октябрьского переворота, добровольное вступление в контрреволюционное формирование…
Живой легендой Манштейн стал в начале девятнадцатого года, вернувшись в строй после жуткого ранения. Во втором Кубанском походе осколок снаряда разворотил штабс-капитану плечо. Медикам пришлось не только ампутировать ему левую руку, но и вылущить лопатку.
Однорукий офицер возобновил борьбу с красными с удвоенной яростью.
То он с диверсионной группой мотался по тылам врага. Единственной рукой отвинчивал гайки у железнодорожных рельсов, запирая в ловушке вереницу красных эшелонов. То, собрав маневренный отряд из посаженной на тачанки стрелковой роты и конных ординарцев, обращал в бегство конницу противника. В пехотном строю захватывал бронепоезда.
Пленных комиссаров и командиров Манштейн ликвидировал безжалостно. Особую ненависть испытывал к кадровым офицерам, поступившим на большевистскую службу. Не одному иуде раскроил череп рукоятью нагана.
Бесстрашием Манштейн выделялся даже на фоне признанного храбреца Туркула. И это несмотря на то, что последний был двухметровым гигантом, обладавшим огромной физической силой, а Манштейн – худеньким кривобоким инвалидом с полудетским безусым личиком. Полковничьи погоны странно смотрелись на его плечах, одно из которых было щуплым, а второе отсутствовало начисто.
В одной дивизии с Владимиром Манштейном служил его отец, престарелый полковник, начавший свой боевой путь ещё в русско-турецкую войну 1877–1878 годов.
…Мокрый Чалтырь считался укреплённым. Выкопанные по краю села мелкие окопы, проволочные рогатки перед ними, по всей видимости, и были теми «неприступными» позициями, о которых наперебой трезвонили ростовские газетчики. Но на безрыбье и рак – щука.
На рассвете заставы обнаружили движение крупных сил противника. Чалтырь стоял на возвышенности, с которой далеко открывалась прилегающая местность.
Утро выдалось морозным, ясным и абсолютно безветренным. Снег искрился на солнце множеством блёсток, словно в волшебной сказке. От горизонта по торной дороге чёрной жирной змеёй неотвратимо наползал враг.
«Дрозды» лихорадочно готовились к бою. На позицию, как на пожар, на рысях неслась гаубичная батарея. Номера запрыгивали на орудия на ходу. Из домов выскакивали стрелки, на бегу одеваясь и примыкая штыки к винтовкам. Строились поротно на окраине.
Батарея проворно снялась с передков[68] и открыла огонь. Первые же разрывы понудили «змею» раздражённо зашевелиться. Советская пехота веерами брызнула в стороны от дороги, разворачиваясь в цепи. Уже без бинокля можно было разглядеть артиллерийские запряжки красных. Густая колонна конницы энергично двинула во фланг дроздовцам. Всё происходило наглядно, будто на батальной панораме, и оттого чувство реальности умалялось.
Мимо своих гаубиц вперёд бежала белая пехота. Окопчики занимать никто не думал. Расположенные слишком близко к селу, они лишали маневра. Пассивная оборона против превосходящих сил обречена на неуспех. Единственной надеждой вырвать удачу оставалась контратака.
В поле разгоралась ружейная стрельба. Обе дроздовские пушки садили без устали. Фугасами – по коннице и батареям, шрапнелью – по кучным цепям пехоты. Видимость была великолепной, эффективность 48-линейных[69] гаубиц, работавших по живой силе, традиционно высокой. Переизбыток целей, однако, не позволял сосредоточить огонь на чём-то одном. Наступательное движение многочисленного противника замедлялось, но не останавливалось.
Командный пункт расположился возле одной из гаубиц. Сюда протянули телефонную связь. Верхом подъехал и без посторонней помощи спешился полковник Манштейн. Пустой рукав его шинели был заткнут под туго затянутый пояс. Сумрачный вид полковника говорил, что он не ожидал столь стремительного разворота событий. С размахом празднуя ночью Рождество, Манштейн думал – красные ещё далеко. Рассчитывал на несколько дней отдыха, которые позволили бы подготовиться к достойной встрече неприятеля.
К полудню в дело втянулся весь полк. Красная конница пропала из виду. Ежу было понятно – она не растворилась, как мираж в пустыне, скоро обрушится на левый фланг. Прищемить хвост кавалерии Манштейн отправил офицерскую роту.
У двадцатипятилетнего полковника – внешность порочного мальчика. В утлом лице – ни кровинки. Брови – редкие, в рыжину́ и вздёрнуты домиком. Под близко посаженными глазами залегли густые тени. Морщинки у крыльев хрящеватого носа куцые, но прорезаны глубоко. Нижняя губа самолюбиво оттопырена. Взгляд досадливый, впалую щёку дёргал тик.
– Штадив[70] мне дайте, ефрейтор! – потребовал Манштейн, не отлипая от «цейса».
Связист торопливо вложил в протянутую руку телефонную трубку.
– Бросил в бой последний резерв! – на высокой ноте закричал Манштейн. – Несу большие потери! Жду подкреплений!
Третьему Дроздовскому полку от роду шёл четвёртый месяц. В начале ноября им заткнули дыру на курском направлении. Первый же бой оказался роковым для сырого формирования. Осколки его свели в шесть рот. Однако при отступлении благодаря энергии командира часть пополнилась людьми, и теперь по силе была второй в дивизии.
За спиной Манштейна хриплый голос разразился возмущённой тирадой:
– Да какая ж это война! Четыре часа кряду пуляете друг в дружку, а до штыкового удара никак не дойдёт. Вот у нас на Шипкинском перевале…
Манштейн рывком обернулся, свирепым взором затыкая критикана – седобородого красноносого старика в покоробленных полковничьих погонах. Ветхая шинелька вытянувшегося по стойке «смирно» ветерана на груди была крест-накрест обвязана башлыком. Над правым плечом торчал трёхгранный заиндевевший штык трёхлинейки.
Старый Манштейн служил при штабе первого полка без должности. В гости к сыну он наведывался исключительно с разрешения своего начальства.
– Здравь желаю, господин полковник! – браво гаркнул старик.
Поморщившись, Владимир Манштейн молча кивнул и вернулся к управлению боем.
Ружейно-пулемётный обстрел усилился. Появились потери и у артиллеристов. К орудию на шинели притащили раненого в живот корректировщика огня. Юное лицо его помертвело, хотя крови видно не было. Ездовым не терпелось выйти из-под обстрела, и они наперебой вызывались «снести их благородие» к санитарной повозке.