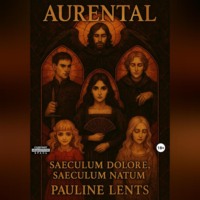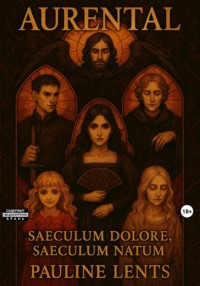Полная версия
Aurental. Volumen II: Saeculum virti et silentii
И поцеловала его.
Не нежно. Не агрессивно. Просто – как метку. Как то, что ставят на дверь перед штурмом.
Он не двинулся. Только выдохнул сквозь зубы:
– Не здесь.
– Где же ещё?
Тесса вскочила. Насколько позволяли ремни.
– Ты… сука.
Ориэлла повернулась.
– Здравствуй.
– Вот как ты на свободе? Через постель?
Паулин-Ориэлла рассмеялась.
Голос – низкий, спокойный, режущий.
– О нет. Я на свободе не из-за него. Я на свободе потому, что могу входить туда, где тебя уже похоронили. И выходить – не объясняясь.
Она подошла ближе.
– А ты – всё ещё спрашиваешь разрешения.
Тесса пыталась дышать спокойно.
Плечи дрожали, но голос оставался злым.
– Ты думаешь, он спасёт тебя? – прошипела она. – Он просто следующий. Все вы – пепел под ногтями.
Ориэлла чуть склонила голову.
– Нет. Он – просто свидетель.
Она обошла стол. Медленно. Как хищник, который знает, что жертва уже не убежит.
– А ты знаешь, что самое обидное?
Тесса молчала. Сжимала зубы.
– Что тебе всё равно никто не поверит.
– Что?
– Даже если ты будешь кричать, даже если выцарапаешь правду кровью по стенам. Все скажут: она – сумасшедшая. Предатель. Жалкая собака, которая лает, чтобы не слышать собственный страх.
Ориэлла остановилась напротив.
Склонилась к ней.
Сказала почти шёпотом:
– Но помнишь… мы сидели на лекции.
В третьем ряду. Осенний семестр.
Ты тогда встала – и яростно защищала Паулин.
Говорила, что её действия были оправданы. Что она не марионетка, а стена. Говорила, что она жива.
Тесса резко вскинула голову.
– Так вот.
Ориэлла выпрямилась.
На мгновение в комнате погас свет. Не буквально – внутренне. Что-то дрогнуло в воздухе.
Плечи женщины будто расправились, осанка изменилась. Голос – тот же. Но теперь в нём звучало настоящее:
– Ты не ошиблась.
И она сбросила облик.
Как кожу. Как маску. Без огня, без вспышек – просто исчез один взгляд, и появился другой.
Перед Тессой стояла Паулин.
Та самая.
С ледяными глазами. С насмешкой на губах. С голосом, который не надо было доказывать.
– Привет, – сказала она. И засмеялась.
Не громко. Не истерично. А так, как смеются боги, глядя на театральную постановку.
Тесса застыла.
На лице – не ужас. Не отвращение.
А то, что приходит после. Когда вера заканчивается.
– Ты…
– Да, – перебила Паулин. – Та самая. Та, кого ты защищала. Та, кого ты предала. Та, кто не умер.
И та, кто теперь будет рядом – пока ты гниёшь здесь.
Тесса не могла пошевелиться.
Словно внутри всё рухнуло – не от ужаса, а от осознания.
Паулин смотрела на неё, не приближаясь. Не нужно было. Всё уже было сказано.
Сзади послышалось движение.
Лирхт подошёл ближе. Скользнул взглядом от одной к другой. Молчал.
И наконец сказал: – Ты… шут.
Паулин обернулась.
В глазах – ни гнева, ни вызова. Только лёгкая, почти нежная насмешка.
– А ты… всё ещё зритель.
Она сделала шаг к нему.
Рука – почти невесомая – коснулась его плеча.
– Пойдём, любимый. Эта партия окончена.
Она наклонилась ближе, так, чтобы только он слышал:
– Предлагаю честную ничью. Пока ты всё ещё дышишь.
Он не ответил.
Но не оттолкнул.
Паулин снова склонила голову. В последний раз посмотрела на Тессу:
– И не вздумай умереть слишком рано. Мне ещё нужно посмотреть, как ты будешь молчать.
Затем – легко, как будто ничего не было, – она вернулась в облик Ориэллы.
Шелк волос. Уголки губ. Выражение лица – снова пустое, как у идеального клона.
– Пошли, – сказала она.
И потянула Лирхта за руку за собой, будто всё это был просто визит.
Прогулка. Игра. Очередной эпизод странной пьесы, в которой зрители всегда остаются без аплодисментов.
Камера снова наполнилась светом. Белым. Слишком белым.
Тесса сидела в тишине.
И впервые – не знала, кого она предала.
ГЛАВА 19. В тишине, где не прощают
Темнота была не пустотой – плотью.
Она спускалась медленно. Каменные своды дрожали под шагами, как если бы сами стены узнавали. Воздух – густой, с привкусом железа и глубокой древности.
Паулин прошла через зал факелов. Через арку, над которой была выгравирована фраза на языке, которого никто не учил: Noli ignoscere. Noli servare.
В комнате не было света. Только кровь.
Целый бассейн, вытесанный в камне. Тёмная, вязкая, почти неподвижная.
Она сбросила одежду, не торопясь.
Не как жрица. Как существо, которому уже не нужно быть человеком.
Ступила в воду.
Сквозь неё прошёл рябью шёпот. Не голос. Не зов. Просто: он знает.
Она погрузилась по шею. Закрыла глаза.
Сначала – тишина. Затем – прикосновение.
Как будто сам камень гладил плечо. Как будто её отец снова был рядом.
– Голодна, – произнесла она тихо. И он дал ей то, что просила.
Мясо.
Человеческое. Не освящённое. Не приправленное. Жёсткое, как правда. Горячее, как предательство.
Она ела медленно.
Без церемоний. Без оглядки.
Вышла из бассейна. Кровь стекала по коже.
Подошла к зеркалу – старому, с ржавыми краями.
На секунду увидела в нём Ориэллу. Потом – Паулин. Потом – Безымянную.
Она улыбнулась.
– Скоро, – произнесла.
– Скоро суд над Ориэллой. И этими… как их там. Плебеями.
Затем – повернулась.
В темноте появился силуэт. Высокий. Молчаливый. С глазами, которые не светились – а жгли.
– Спасибо, отец, – сказала она.
И поклонилась. Не как дочь.
Как наследница трона, на который не ступает свет.
Она стояла обнажённой, покрытая кровью, в центре чертога.
Силуэт отца возник не сразу. Он не выходит – он появляется, как если бы всегда был здесь.
Мордрагон.
Высокий. Безликий. В плаще, сотканном из теней.
Голос его – не голос. Давление. Камень, упавший в сердце.
– Ты вкушаешь плоть, как наследница.
Он смотрел на неё сквозь дым, сквозь вечность.
– Но не забывай: ты не выше боли. Ты – её орудие.
Пауза.
– Ориэлла была только маской.
Они – только крик. Суд – не для них.
Он сделал шаг ближе. И произнёс:
– Суд – для тебя.
Она не дрогнула. Только выдохнула. И прошептала:
– Тогда пусть будет честным.
Он коснулся её лба. Пальцем, которого не было.
И в этом касании – не благословение. Напоминание.
Однажды ты войдёшь сюда – не в одежде, а в прахе. Не с именем, а с приговором.
Но пока – он позволит ей уйти.
ГЛАВА 20. Суд, которого не будет
Зал был вычищен до предела. Камень, стекло, прямой свет, отсекающий тени. Ни гербов, ни флагов, ни знаков отличия. Только порядок, только линии. За столом – Лирхт, Шион, Вердиса и наблюдательница от Совета: женщина с лицом без возраста, без выражения, без признаков присутствия. Перед ними – трое: Ориэлла Морель, Тесса Эльм и Объект №17, обезличенный, связанный, с повязкой на глазах и пересушенными губами. Он был жив, но его дыхание уже звучало как отказ.
– Вы обвиняетесь в содействии подрыву безопасности, участии в террористической ячейке, уклонении от дисциплинарных предписаний и сопротивлении административному контролю, – проговорила наблюдательница, перелистывая бумаги, будто протокол был важнее самих фигур. – Сведения подтверждены. Идентификация установлена. Ответ ожидается.
Ориэлла сидела прямо. Тесса сжималась в кресле, как в капкане. Третий – молчал.
Когда Паулин вошла, зал не шелохнулся. Она не произнесла ни слова. Шла медленно, чёрное платье тянулось по полу, ожог на шее выглядел как клеймо. Она остановилась между обвиняемыми. Повернулась к Тессе. И не произнесла приговора – только фразу: «Скажи им. Пока можно».
И мир рухнул.
– Она не та, за кого себя выдаёт! – Тесса закричала, вскакивая. – Это не Ориэлла! Это… нечто! Она… говорит со мной ночью! Входит в сны! ВЫ СЛЕПЫЕ! Это не человек! Она манипулирует! Это она подстроила всё!
В зале запахло потом, жаром, хаосом. Один из охранников двинулся – укол наготове. Наблюдательница только кивнула.
– Тесса Эльм, – произнесла она, – на основании признаков нестабильности и угрозы общей безопасности – помещение в блок N, изоляция, с ограничением контактов. Без возможности обжалования до заключения экспертной комиссии.
– НЕТ! – визг, ломящийся через хрип. – Это ПАУЛИН! Она всё знала! Она – огонь! Она СМОТРИТ!
Ориэлла смотрела. Без улыбки. Без сожаления.
– Морель, – продолжила наблюдательница, – в связи с зафиксированными случаями атипичного поведения, диагностического рассогласования личности и фактом самоповреждений – госпитализация. Блок S. Отдел нейроизоляции. Без связи.
Ориэлла не ответила. Не моргнула. Только отвела взгляд в сторону – и встретилась глазами с Паулин. Тишина между ними была слишком человеческой, чтобы быть случайной.
Третьему не дали слова. Его казнь была уже подписана. Через 24 часа. Без имён. Без объяснений.
– Это не суд, – бросила Шион, не поднимая глаз от протокола. – Это ритуал.
Наблюдательница не ответила. Только сложила бумаги, как будто всё – закончено. Как будто никто не видел, что рядом стояла Паулин, молча, в полном сознании происходящего.
И тогда она повернула голову. Медленно. В сторону того, кто всё это позволил. Кто сидел спокойно. Кто не шевелил ни мускулом.
Лирхт.
Он поднялся. Не грубо. Не угрожающе. Подошёл к ней, медленно, как будто это был личный разговор, не сцена. Склонился чуть ближе, так, чтобы никто не слышал. И прошептал прямо в ухо:
– На ничью я не согласен. Я победил.
Он выпрямился и ушёл. Без оглядки. Без пафоса. Просто – как победитель.
А Паулин осталась стоять. С криками Тессы в ушах. С холодом на коже. С осознанием: он всё видел. Он не остановил. Он знал, что она придёт. И он устроил так, чтобы она проиграла – на глазах у всех.
И в этот раз – она действительно проиграла.
Он поднялся. Не грубо. Не угрожающе. Подошёл к ней – к Ориэлле – медленно, с выражением почти уважения. Как будто собирался поблагодарить. Он склонился, и никто не услышал, кроме неё. Его голос был тихим, шершавым, не громче шёпота, но именно он вонзился под кожу. Он на секунду задержался, глядя в её глаза. Не в Ориэллы – в её.
– На ничью я не согласен. Я победил.
И он ушёл.
Не с триумфом. Не спиной к залу. Просто – как тот, кто больше ничего не должен.
А она осталась. В теле Ориэллы. С расправленным плечом, с застывшей улыбкой, с криками Тессы, захлёбывающейся в собственной правде.
И с тем знанием, которое сожгло горло: он видел. он знал. и он позволил.
Палата была белой. Не как снег. Как больница.
Без окон. С подсветкой под потолком. Даже стены – не стены, а звукопоглощающая ткань. Слово, сказанное громко, в этом месте звучало как предательство.
Тесса сидела на полу. Платье пациента. Резинка на руке. Пластырь на шее. Пустой взгляд.
Ломкие ногти.
Она не кричала. Уже нет. Она шептала. Снова и снова:
– Она не та. Она не та. Она не та…
Когда дверь открылась, она не сразу повернула голову. Тени не должно было быть – ни визитов, ни гостей. Но фигура появилась. В белом халате. Ориэлла.
Тесса вздрогнула. Потом поползла назад, до самой стены. – Не трогай меня.
– Я не собираюсь, – голос был спокойным. Очень ровным.
Ориэлла подошла ближе. Села на край кровати. Смотрела на Тессу, как будто видела не испуганную девочку, а сломанную структуру.
Что-то в лице начало меняться. Медленно. Как сброшенный слой краски. Как тепло, сползающее с кожи.
Глаза стали другими. Темнее. Резче.
Черты – холоднее. Тоньше. Голос – чуть глубже.
– Ты была права, – произнесла она наконец. – Я не Ориэлла.
Тесса замерла.
– Тогда… кто ты?..
Паулин улыбнулась.
– Сегодня – ассистент. Медицинский.
Она встала.
– Сейчас запишу, что пациент идёт на поправку. Выходит в фазу адаптации. И нуждается в отдыхе.
– Нет… подожди…
– Мне нельзя здесь находиться. Я только проверяю уровень тревожности, – спокойно проговорила Паулин, надевая на себя халат, как маску. – Ваша реакция стабильна. Не агрессивна. Не опасна. Вы очень послушная, Тесса.
Дверь открылась снова. Надзирательша с планшетом посмотрела на Паулин, оценила, кивнула.
– Новая?
– Да. Я ассистент доктора Верди. Он просил проверить уровень когнитивной активности.
– А, хорошо. Только не задерживайтесь. У неё ночные всплески.
– Уже ухожу.
Паулин вышла. Ни капли спешки. Легко, точно, сдержанно. Как будто никогда не заходила.
Она вернулась вечером. В семейный сектор. Дом Альвескардов больше не пугал – он ждал.
Лирхт стоял у окна. Пальцы сжимали тонкую перчатку, не надетую – словно всё ещё выбирал, надевать ли маску. Он не обернулся, когда услышал шаги.
– Ты пришла.
– А ты меня ждал?
Он медленно развернулся.
– Нет. Я просто знал, что ты не удержишься.
Паулин подошла. На ней уже не было ничего от Ориэллы. Ни походки, ни взгляда, ни веса.
Она смотрела открыто – не как маска, а как я. Остановилась близко. Совсем. Почти касаясь.
– Хорошо, – сказала она. – Ты победил.
Он не ответил. Только выждал.
И тогда она наклонилась.
Поцеловала его. Тихо, без наигранности. Почти как отметку на металле.
– Мне это даже нравится, – прошептала она. – Ты так искусно отобрал у меня её лицо. Мне интересно, как долго они будут её искать.
Он смотрел. Молча. В его глазах не было ликования. Только сухое подтверждение факта.
– А ты? – спросил он. – Долго будешь прятаться?
Паулин улыбнулась.
– Нет. Я выйду. В собственном теле. С собственной историей. И тогда – начнётся следующий раунд.
И она ушла. Не по-женски. Не по-семейному. По-своему.
Паулин не ждала разрешения. Она просто пришла. Открыла дверь. Села.
На шее – тонкая полоска от предыдущего укола. Он даже не зажил до конца.
Готье был готов.
Ампула – на столе. Шприц – чист. Его руки – в перчатках. Но он никогда не был аккуратен. Он был точен. И в точности была власть.
– В шею снова? – спросил он.
– Да. Только не медли.
Он подошёл сзади. Откатил ворот платья. Его пальцы коснулись кожи.
Слишком нежно. Слишком интимно. Паулин молчала.
– Я скучал по этому, – прошептал он, медленно вводя иглу. – Когда ты снова стала собой, всё стало правильно. Это – я даю тебе силу. Не кто-то там. Не Лирхт.
– Ты даёшь мне яд, – ответила она. – Но иногда я хочу гореть.
Он усмехнулся.
– Вот за это я тебя и люблю.
Он не убирал пальцев. Даже после укола.
– Я чувствую, как оно входит в тебя. Каждый раз. Словно ты снова под моей кожей. Внутри.
Паулин встала. Обернулась.
– Ты слишком радуешься, что теперь ставишь не маске.
– А ты слишком молчишь, когда я делаю это. Не потому что слаба. А потому что хочешь, чтобы я продолжал.
Она подошла ближе.
– Ты не лекарь. Ты – тень, которую я кормлю. Пока не решу сжечь.
Он снова усмехнулся.
– Ты снова пришла. Добровольно. Это всё, что мне нужно.
Он не постучал. Просто вошёл.
Паулин стояла у зеркала. На шее – след, красный, свежий. Она не прятала.
– Он всё ещё вводит тебе это дерьмо, – произнёс Лирхт.
– Он знает дозировку. – Она не повернулась.
– Он трогает тебя. Систематически. Без разрешения. Он вгоняет в тебя своё вещество – и ты позволяешь. Знаешь, что это?
Контроль?
– Владение. В чистом виде. Только под видом медицины.
Паулин молчала. Он стоял сзади – близко, но не дотрагивался. Он не смел. Не позволял себе.
– Ты знаешь, что он это делает не ради стабилизации. Не ради уравновешивания. Он делает это, чтобы быть внутри тебя, – сказал Лирхт тихо. – Чтобы ты не забыла, чьё имя было первым в твоих венах.
Паулин обернулась.
– Ты слишком поздно пришёл, чтобы что-то остановить.
– Я не остановлю. Я заберу.
– Кого?
Он смотрел на неё долго. Без выражения. Но в глазах – напряжение, как у лезвия в момент удара.
– Тебя. Его. Всё. По очереди. Без пафоса.
– Поздно, – прошептала она.
– Нет, – ответил он. – Только началось.
Кто-то засмеялся.
Низко. Тихо. Но достаточно громко, чтобы быть услышанным.
Готье.
Он стоял, прислонившись к стене, как будто просто оказался рядом. Но он ждал. И слышал. Каждое слово.
– Заберёшь? – бросил он сквозь смех. – Попробуй. Только сначала вырежи моё имя из её крови.
Лирхт обернулся.
Глаза – острые, как лёд перед трещиной.
– Или ты думаешь, что я просто ставлю уколы? – продолжал Готье. – Я в ней. Постоянно. Я – её тепло, её ломка, её точка баланса. А ты – всё ещё стоишь снаружи.
Он улыбался. Без радости. Просто – демонстрируя.
– Она возвращается ко мне не потому, что хочет забыть. А потому что помнит. Меня.
Лирхт не двинулся. Только сжал кулак так, что хрустнули кости.
Паулин подошла к двери. Остановилась между ними. Взгляд – холодный.
Готье, – произнесла она спокойно, – ты не в ней. Ты под ней. Внутри – только я. И ты не знаешь, что я с этим сделаю.
И всё-таки она не остановила его. И не подошла к Лирхту.
А просто ушла. Без оглядки.
Лирхт остался.
С его яростью.
Готье – со своим смехом.
А она – с выбором, который был сделан ещё до того, как они вошли.
В коридоре стало тише. Тяжелее. Воздух сгустился. Лёгкие не наполнялись.
И тогда она её услышала.
– Паулин…
Шёпот. Тонкий. Как разрез.
– Он не любит тебя так, как я.
Паулин не двинулась. Не моргнула.
– Он смотрит – но не прикасается. А этот – трогает. Но чужой. Все они чужие.
Голос стал ближе. За ухом. Не изнутри. Не снаружи. Сбоку.
– А я – я вся из тебя. И я всегда рядом. Даже когда ты не хочешь. Особенно – когда не хочешь.
Паулин села. На подоконник. Спина прямая. Дыхание ровное. Но внутри – холод.
– Ему больно, – шептала Симба. – Сделай ещё. Сделай, чтобы болело больше. Я люблю, когда мужчины ломаются. Они потом слаще.
Тишина затянулась.
– Уйди, – прошептала Паулин.
– Уже внутри, – сказала она. – Я же часть тебя. Ты сама позволила.
– Нет.
– А кто принял укол с улыбкой? Кто поднял голову, когда игла вошла в кожу? Кто смотрел в глаза тому, кто хотел тебя забрать, и сказал – мне это нравится?
Паулин зажмурилась.
– Ты горишь, Паулин, – прошептала Симба. – Я чувствую. И мне так хорошо рядом.
Паулин открыла глаза.
Тогда смотри внимательно. Я сожгу и тебя. Если захочу.
Тишина. Только тень у зеркала дрогнула. Как будто кто-то уходил. Не проиграв – но затаившись.
Паулин осталась одна.
Снова.
Но теперь – уже не до конца.
ГЛАВА 21. Наследие
Готье работал молча. В лаборатории не было ни звуков, кроме тихого постукивания стекла, шума капель и дыхания, которое он сдерживал. Перед ним – расплавленные компоненты, стабилизатор, фильтр из серебряных нитей и кристаллизатор, который он модифицировал сам. Стеклянные пробирки стояли в ряд, как солдаты. Одну за другой он наполнял новым раствором: прозрачным на первый взгляд, но с оттенком зелёного света, который появлялся лишь под определённым углом. Paurel – формула, которую он совершенствовал годами. На этот раз он добавил связующий реагент – вещество, способное активировать участки мозга, отвечающие за эмоциональную зависимость. Связь. Привязанность. Подчинение. Всё, что невозможно было вырвать без боли. Он даже не улыбался. Только отмечал – дозы, реакции, задержки. Уравнения складывались в формулу власти.
Когда дверь открылась, он не удивился. Паулин вошла, как буря, без стука. С ногтями, окрашенными в чёрное. С лицом, на котором не было ни тени доверия. Только расчёт.
– Я чувствую, – сказала она сразу, – что ты что-то изменил.
Он повернулся. Его лицо было спокойно. Но рука – дрогнула.
– Прогресс, – ответил он. – Формула требует адаптации. Ты стала сильнее – её надо усилить.
Паулин подошла ближе.
– Ты усиливаешь не вещество. Ты усиливаешь то, что оно вызывает. Привязку. – Я не твой питомец, Готье. Не твоя кукла.
– Ты никогда не была куклой, – прошептал он. – Но ты же пришла. Значит, хочешь.
Она подошла к столу. Взяла одну из ампул. Держала в пальцах, как оружие.
– У тебя же целая армия. Обычные люди, ожившие куклы в царстве твоего отца. Твои братья. Твои сёстры. Играешься с ними сколько хочешь. – Зачем тебе я?
Он молчал. Взгляд – стеклянный. Внутри – пульсация.
– Ты ведь не закончил, – сказала она. Голос стал жёстким. – Не можешь. Ты всё ещё химичишь. Всё ещё хочешь добавить что-то новое. Даже сюда.
Она смахнула со стола три пробирки. Стекло разбилось, жидкость растеклась по полу. Готье вздрогнул – так, как не дрогнул бы от удара. Вскочил, схватил её за запястье.
– Не смей. Это результат месяцев. Это вещество, которое могло бы…
– Сделать меня твоей, – оборвала она. – Вещью. С зависимостью на твоё прикосновение.
Он смотрел на неё, дыхание рваное, взгляд – бешеный.
– Я не закончил, – прошипел он. – Ты не дала мне закончить.
Паулин вырвала руку. Сделала шаг назад.
– Я могу убить тебя. Прямо сейчас. И никто даже не вздрогнет.
– Тогда почему не убиваешь? – бросил он. – Почему стоишь?
Пауза.
– Потому что не хочу, – произнесла она наконец. И в этом голосе было не прощение. Не слабость. А признание – тяжёлое, ломающее. Побеждённая – впервые.
Он усмехнулся. Нервно.
– Вот и всё. Вот она – привязка.
Но Паулин вдруг остановилась у дверей.
– И что ты хотел туда добавить, Готье? – спросила она, не оборачиваясь. – В новый состав? Что ещё? Что бы сделало меня полностью твоей?
Он не ответил. Пауза стала ножом.
– А Люси? – спросила она. – Ты убрал из неё остатки моего вещества?
Тишина.
– Или она всё ещё ходит с фрагментом меня внутри? Сложенной дозой, привязкой, нуждой?
Он сжал челюсть. Лицо стало белым. – Я… дал ей другую формулу.
– Без моего следа?
Он не ответил. Она кивнула – медленно, с почти печальной ясностью. – Боишься, что уйдёт. Если забрать мой след – останется пустота.
Она взяла в руки последнюю ампулу. Поднесла к свету.
– Значит, всё, что ты строишь, – держится на осколке меня.
Она положила ампулу на край стола.
– Ты создал армию. Целый мир. А не можешь убрать одно: моё имя.
Она остановилась на полпути к двери. Повернулась, глядя прямо в него – как хирург в изъеденное опухолью тело.
– Ты не хочешь меня. Ты хочешь привязать к себе всех. Всех и сразу. Как будто боишься, что кто-то уйдёт первым.
Он хмыкнул. Смешок – почти детский.
– Ты что, ревнуешь?
Паулин подошла ближе. Лицо её стало ледяным.
– Мне мерзко. Даже не от того, что ты используешь меня. А от того, что ты используешь всех. Без разбору. Без меры.
Как будто если в тебя не смотрят – ты исчезаешь.
Он впервые отвёл взгляд.
– Я не ревную, Готье, – продолжила она. – Я просто впервые вижу, насколько ты пустой.
Ты не хочешь любви. Ты хочешь удержания. В любой форме. Даже в самой отвратительной.
Он хотел что-то сказать. Оправдаться. Возразить. Но не успел.
Паулин наклонилась – так, что он почувствовал её дыхание. – А я не вещь. Не капсула. И не трофей.
Она выпрямилась.
– Я ушла, Готье. И ты даже не заметил, когда.
Она уже повернулась к двери, когда он сказал:
– Нет. Ты не ушла.
Она остановилась. Молча. Без жестов.
– Мы подписали договор, Паулин. На крови. Не на эмоциях. Не на памяти. На том, что не смывается.
Он сделал шаг ближе, не угрожая – утверждая.
– Ты бы не согласилась на это просто так. Не поддалась бы. Не поставила бы печать – если бы не хотела остаться.
Значит, ты всё ещё здесь.
Она не повернулась. Только тихо засмеялась. Горько. Без радости.
– Ты путаешь след с решением, – произнесла она. – Я оставила кровь, да. Но не душу. Ты держишь только её – вещество. Но я уже не в нём. Не с тобой.
– А я вижу по глазам, – ответил он, – ты всё ещё помнишь, каково это – быть моей.
Паулин развернулась.
– Я помню. Чтобы больше не повторить.
Паулин остановилась у лабораторного стола. На его краю – новая ампула, чуть мутнее предыдущих, будто в ней уже скрывалось намерение. Она взяла её, поднесла к свету, посмотрела – не на формулу, на суть.
– Ты что, хочешь, чтобы твоё новое желание было вколоть мне ещё одну дрянь?
Он не ответил сразу. В глазах – колебание. Почти игра. Почти честность.