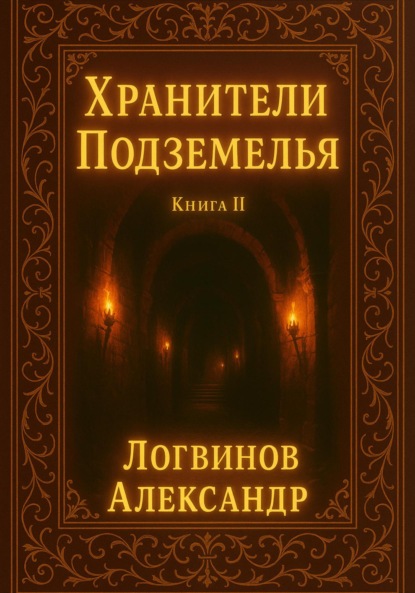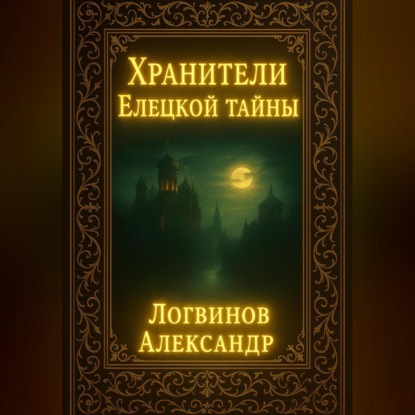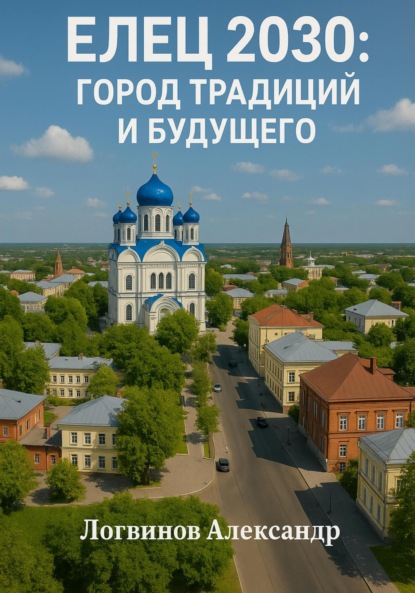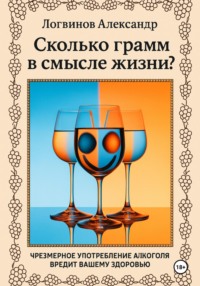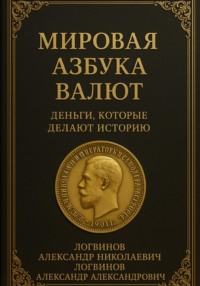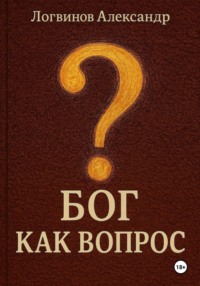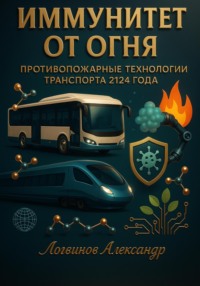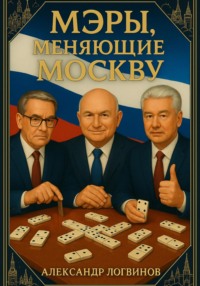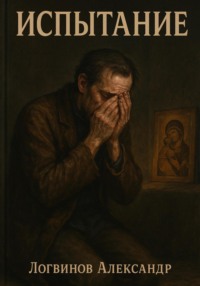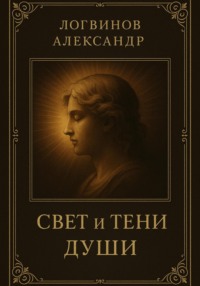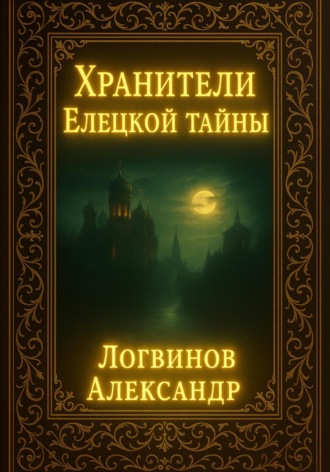
Полная версия
Хранители Елецкой тайны
Всадник остановился, и мир вокруг содрогнулся: он поднял руку, и пространство рванулось. Колокола елецких храмов огласились диким боем. Из-под сводов небес забрызгали искры пепла, и тьма растеклась по городу чёрной рекой. Крики людей, умирающие где-то в далёких дворах, больше не отзывались; повсюду стоял тлен и кровь.
В этом безмолвии из уст древнего владыки выпало одно слово: «Терентьев». Оно отозвалось эхом меж развалин, словно страшный щит судьбы. Сам Тамерлан плавно склонил голову – и призрачный образ растворился в темноте.
Бунин очнулся, прижавшись к холодному камню подвала Преображенской церкви. Розоватые лучи рассвета проникали сквозь трещины куполов, как будто ничего ужасного и не бывало. Тело его горело, на лбу выступил холодный пот, но память о ночном видении жгла тёмным жаром внутри.
Иван схватил бумагу и дрожащей рукой записал последние виденные знаки: «Никольский храм, Терентьев». Строки наклонились в ускоренном почерке, а глаза непроизвольно сузились в отблеске тревоги. Где-то в глубине сознания затеплилось осознание – древнее проклятие Тамерлана еще живо, и оно ожидало своего часа. Бунин почувствовал, как сердце снова сжимается от ужаса и предчувствия: эта ночь только пробудила легенду, и знать её ему теперь было не дано покоя.
Глава 7. Бунин исследует Никольский храм и тайну Терентьева
Бунину показалось, что вечерний Елец сгустил над Никольским храмом особую темень. Деревянная церковь на Каменной горе – на том самом месте, где монах Савватий три века назад воздвиг первую обитель Николая Чудотворца, – ныне стояла безмолвной тенью прошлого. Узкое крыльцо вело внутрь; тяжёлая дубовая дверь скрипнула, впуская героя в полумрак. Внутри пахло старым деревом и холодным ладаном, как будто в этих брёвнах застыл запах веков. Странный холод окутал Бунина – не обычная ночная прохлада, а нечто исходящее от самых стен, словно сама история дышала ему в лицо.
Он шагнул в неф храма. Тусклое пламя единственной свечи дрогнуло на аналое, заставив плясать по стенам угловатые тени. Казалось, будто чьи-то силуэты метнулись в углах – может, игра света, а может, отголоски прежних обитателей церкви. Бунин невольно поёжился. Ему почудилось, что из тишины проступает шёпот – древние молитвы или отзвук давних страданий, эхом отдающийся под сводами. Каждый его шаг по деревянным половицам звучал громко, и в этом гулком эхо слышалось напряжение, словно сами стены наблюдали за каждым движением пришельца.
Вдоль стен вырисовывались смутные контуры икон. Лики святых едва проглядывали во мраке, и мерцание свечи придавало им суровое, испытующее выражение. Особенно выделялся образ Николая Чудотворца – покровителя храма. На мгновение Бунину показалось, что взгляд святого строг и печален, будто он знает о тревоге, принесённой гостем. Иван Алексеевич провёл рукой по холодной резной спинке древнего стасидия, пытаясь унять дрожь. Но холод лишь усиливался – странный, не физический, а проникающий внутрь, рождающий непрошеные мысли о том, сколько бед видел этот храм.
Он вспомнил, как читал о трагедиях, обрушивавшихся на Елец. Город, что не раз возрождался из пепла, подобно фениксу. Ещё в 1395 году, когда на Русь двинулся грозный завоеватель Тамерлан, именно Елец первым принял на себя удар его несметной рати. Бунин закрыл глаза, и история ожила перед его мысленным взором: вот войско хана Темир-Аксака (так в летописях именовали Тамерлана) раскинулось станом под стенами старого Ельца. Предводитель требует покорности, но елецкий князь Фёдор отвергает ультиматум, и начинается отчаянная сеча. Неравное то было сражение – толпы завоевателей против горстки защитников. Несколько дней ельчане отбивали яростные приступы, пока силы их не иссякли и стены не пали. Ивану Алексеевичу чудилось пламя – зарево пожаров, охвативших осаждённый город. Призрачный свет этих давних костров, казалось, отразился на стенах храма. Он моргнул – и на миг увидел, словно сквозь дымку времени, обугленные бревна срубов, рушащиеся под языками пламени, и бегущих людей, и воинов, падающих под саблями. Всполохи света выхватили из тени огромное тёмное облако – нет, силуэт всадника… Бунин резко выдохнул: перед ним, на внутренней стороне входной двери, почудилось неясное отражение – высокая фигура в восточном доспехе, с окровавленной саблей. Из-под тяжёлого шелома горели немигающие глаза. Тамерлан… – пронеслось у него в голове. Будто сама тень повелителя, разрушившего Елец, возникла среди дрожащих бликов. Иван Алексеевич замер, но видение исчезло, как только пламя свечи качнулось и рассекло фигуру тьмой.
Он отдышался, осознав, что невольно сжал ладонь в кулак. История здесь действительно смотрела на него, затаившись в каждом углу. Бунин попытался справиться с наваждением, прошептав молитву. Тишина храма ответила ему лёгким шорохом – или то прошелестел кто-то за его спиной? Писатель оглянулся и вздрогнул: в нескольких шагах стоял человек.
Высокий худой старик в тёмном подряснике или длинном пальто сливался с сумерками храма – словно проявился из них. Лицо – бледное, изборождённое морщинами – казалось Бунину смутно знакомым, хоть он был уверен, что видит этого человека впервые. Старик смотрел прямо на него, и в глубоко посаженных глазах читалась усталость веков. В пальцах незнакомец держал ту самую свечу, чьё пламя тревожило тени. Бунин не понял, как тот подошёл, – шагов слышно не было, да и дверь он не слышал, чтобы открывалась вновь.
– Иван Алексеевич…– чуть слышно произнёс старик, кивая, будто давнему знакомому.
Бунина пробрал озноб не от холода теперь, а от удивления: незнакомец назвал его по имени, как старого друга или как будто ожидал его.
– Вы… вы меня знаете? – тихо спросил Иван, осознавая, как странно гулко его голос звучит под сводом.
– Знаю, – просто ответил хранитель храма. Голос его был хрипловат, но тих, словно шелест страниц летописи. – Давнознаю.
Старик шагнул ближе, и отблеск свечи осветил его лицо яснее. У Бунина мелькнула мысль, что черты этого человека похожи на черты кого-то, запомнившегося по старым портретам или описаниям. То ли лик древнего монаха из настенной фрески, то ли черты одного из героев городских преданий.
Хранитель едва заметно улыбнулся краем губ, и эта улыбка показалась Ивану Алексеевичу всезнающей. Будто собеседник видел его насквозь – и того переплетения времён, что тянулось за писателем.
– Вы пришли спросить о Терентьеве, – сказал старик утвердительно, не спрашивая, а утверждая.
Бунин оторопел: именно ради этого имени он отправился сегодня в Никольский храм. Накануне он обнаружил высеченное на старинной надгробной плите имя Терентьев – загадочная находка, окутанная тайной. В надежде раскрыть её он и разыскал церковь, где могли сохраниться архивы или легенды. Но откуда этот странный хранитель мог знать цель визита?
– Да… Терентьев… – Иван попытался взять себя в руки. – Мне попалась плита с таким именем. Кажется, очень старым. Возможно, из разрушенной часовни или склепа. Я подумал, в храме могут знать, кто он… Или кем он был.
Хранитель молчал несколько мгновений, рассматривая пламя свечи, как бы размышляя, с чего начать. Затем медленно кивнул:
– Терентьев… Имя, что вписано кровью и позором в судьбу нашего города.
Старик прошёл вдоль стены, указывая Бунину следовать. Иван двинулся рядом. От шагов хранителя половицы не скрипели – тот ступал бесшумно, как призрак. Они остановились у пыльного киота, в котором тускло поблёскивала старая икона. Хранитель поднял свечу, и Бунин различил на образе лик Богородицы с благоговейно склонённой головой. Подпись гласила: «Божия Матерь Елецкая». Иван вспомнил предание: после падения Ельца Тамерлану явилась во сне Пресвятая Дева, окружённая небесным воинством, и грозный хан в страхе отступил от дальнейшего похода. Этот образ Богоматери – Елецкая икона – был написан в память о чудесном спасении, гласила легенда. Хранитель тихо произнёс, словно читая мысли гостя:
– Захватив Елец, грозный Темир-Аксак возлежал на Аргамачьей горе и уснул. И явилась ему во сне Пречистая с воинством небесным – он ужаснулся и ушёл прочь. Так пересказывают чудо, спасшее Русь от завоевателя. Но что осталось здесь, в Ельце, после того кошмара? – Старик повернул к Бунину проницательный взор. – Остались пепелища. Остался прах бесчисленных жертв. Да ещё – память. И… клятва.
Бунину почудилось, что воздух вокруг сгустился. Слово клятва отозвалось чем-то древним, нерушимым, будто камень лёг на сердце.
– Какая клятва? – спросил он шёпотом.
Хранитель опустил голову, и тень от его худого лица легла на грудь, точно маска.
– Древняя клятва, рожденная в пламени 1395 года, – ответил он медленно. – Немногие выжили в ту катастрофу… Лишь те, кто успел скрыться от резни в лесных чащобах и оврагах, да в глубоких ямах. Женщины с младенцами, раненые, старики – жалкие остатки ельчан. Когда враг ушёл, они вышли из своих убежищ на пепелище города. Представь, Иван Алексеевич: вокруг них – горы золы, обгорелые бревна, трупы павших. Ни стен крепости, ни крова, ни колокольного звона… Только вороньё, да чёрное небо после пожара.
Бунину живо представилось это страшное утро. По коже пробежали мурашки, будто холод смерти коснулся его.
– И вот, – продолжал хранитель, – они собрались уцелевшие – горсточка на пепелище – и дали клятву. Поклялись перед лицом Божиим хранить свой город, свою землю до последней капли крови. Поклялись, что никакой новый Темир-Аксак не захватит их душу и веру. Они дали обет – основать тайное братство хранителей Ельца. С тех пор из рода в род, из века в век, через молитву и тайное посвящение передавалась эта клятва – быть на страже. Быть памятью. Быть щитом.
Старик произносил эти слова с таким спокойным убеждением, будто сам был одним из участников того страшного собрания на пепелище. Бунин слушал затаив дыхание. Тайное братство… Потомки переживших нашествие Тамерлана – хранители города. Эта мысль одновременно воодушевляла и пугала его. Неужели сквозь века мог сохраниться подобный завет?
– И Терентьев… – тихо напомнил он. – Причём же тут Терентьев?
Хранитель вздохнул, отрывисто и горестно, как человек, вынужденный сообщить неприятную правду.
– Терентьев – это фамилия, взятая одним из тех, кто дал клятву. Его звали Тертий, по церковному – Терентиус, – и он был монахом, чудом оставшимся живым после бойни. Говорят, именно он возглавил ту тайную молитву о спасении, когда выжившие приносили обет. Со временем его потомки стали зваться Терентьевыми. Долг хранителей переходил и к ним… но человеческое сердце непросто удержать от слабости.
Старик покачал головой и провёл ладонью по резному киоту с иконой Богоматери. В углу киота Бунин заметил вырезанную на дереве дату – 1801 год, год открытия часовни-шлемана братской могиле погибших от Темир-Аксакова меча. Символ памяти о тех событиях. Хранитель продолжал чуть слышно:
– В роду Терентьевых были и герои, и… предатели. Эта фамилия – как знак двойной судьбы Ельца. Когда пришли новые беды, один Терентьев стал на защиту родного края, а другой, его кровный родственник, поддался страху и прельщению врагов.
– О каких бедах вы говорите? – прошептал Бунин, хотя уже догадывался.
Хранитель посмотрел на него выцветшими глазами, в которых плясали огоньки свечи.
– Разные времена знали подобных. Например, когда спустя два с лишним века татары вновь набегом уничтожили Елец в 1415 году, поговаривали, что кто-то из местных показал им лазейку – тайный лаз в укреплениях. А в Смутное время, в 1618-м, когда запорожские казаки Сагайдачного сожгли город, не обошлось без изменников. История порой повторяется. В братстве хранителей тоже случался раскол – одни стояли насмерть, другие пасовали и предавали клятву.
Бунину вспомнилось, как в городском архиве он мельком видел упоминание о неком предателе, чьё имя вычеркнули из летописи. Мог ли то быть Терентьев? Сердце колотилось: казалось, разгадка близка, но становилось лишь страшнее.
– Терентьев… – повторил он задумчиво. – Значит, носители этого имени были и хранителями, и нарушителями клятвы?
– Именно так, – кивнул старик. – Это имя – гордость и проклятие нашего города.
С этими словами он двинулся дальше, вдоль стены. Бунин последовал, пока они не остановились у массивной деревянной плиты в полу, прямо перед иконостасом. Плита отличалась от других половиц – тёмная, отполированная, с вырезанным старым крестом и едва различимыми буквами. Иван опустил взгляд и с трудом разобрал: "Терентьев". Он ахнул: то была, вероятно, та самая плита с именем, которую он видел прежде, только тогда она была отломана и прислонена к стене церковного притвора. Теперь же она будто бы установлена здесь, в центре.
– Это могильная плита? – спросил он.
– Она закрывает вход в подземелье, – тихо ответил хранитель.
Бунину перехватило дыхание. Подземелье… Вот что означала странная фраза в старых записях, которой он не мог найти объяснения. Монстырские хроники обмолвились, что после разорения города монахи «погребли зло под спудом». Иван никогда не понимал, о чём речь, предполагал аллегорию. Но теперь – под этой плитой явно что-то находилось. И имя Терентьева выбито не случайно.
– Что там, внизу? – спросил он одними губами.
Хранитель опустился на одно колено перед плитой, держа свечу так, что та осветила трещины вокруг каменной печати в полу.
– То, что наши предки запечатали навеки, – прошептал он. – Клятвопреступление и проклятие. Душу предателя и гнев завоевателя.
Непонятные слова повисли в холодном воздухе. И вдруг свеча затрещала, разбрасывая тени. Бунин внезапно ощутил другой запах – не ладана, не сырого дерева, а гари. Резкий, как от свежего пожара, дым ударил ему в ноздри. Он заморгал – и мир вокруг изменился.
Вместо тёмного храма вокруг колыхались отсветы пламени. Бунин застыл: он вновь видел видение, наяву или нет – не важно. Перед ним, где только что склонился старик-хранитель, теперь стояли несколько монахов в чёрных одеяниях. Лица их были бледны и суровы, на лбах запёклись струйки пота и копоти. Они напряжённо ставили на место тяжёлую плиту – ту самую, с именем. Где-то сверху сыпалась пыль – слышно было далёкое эхо треска горящих строений. Пожар? Бунин понял: вокруг этих призрачных монахов – развалины сгоревшего монастыря. Вероятно, великий пожар 1769 года, что уничтожил Никольский храм. Он слышал, как один из монахов прокричал другим: «Быстрее, пока братия отвлекает их молитвой! Запечатывайте!». Лица монахов исказила смертельная решимость. Они опустили плиту, и самый старший, вздёрнув вверх крест, возгласил: «Да будет проклят нарушивший обет и unleashed тень зла на землю Елецкую!». Кругом пылали отблески – возможно, горел весь город. Бунин различил краем глаза за спинами иноков чёрную фигуру в дымах – едва угадываемый силуэт всадника с поднятой саблей… Тамерлан? Или галлюцинация? Но видение дрогнуло: монахи начали читать молитву, и звучал их хор глухо, как из-под земли: «Спаси, Господи, люди Твоя…». Один монашеский лик обернулся прямо к Бунину – лицо покрыто копотью, но глаза… глаза были те же, что у хранителя!
Иван ахнул и отшатнулся. Перед ним снова стоял старик с свечой, а вокруг снова покой ночного храма. Только запах гари ещё витал, растворяясь. Бунин почувствовал, как к горлу подступает ком – то ли от дыма, то ли от осознания, что он только что узнал.
– Вы… были там, – прошептал он, глядя на хранителя с ужасом и благоговением одновременно.
Но старик лишь опёрся на алтарную преграду и поднялся с колена. Вновь на лице его застыла таинственная полуулыбка.
– Я – лишь хранитель, Иван Алексеевич, – тихо сказал он. – Как и мои предки. Моя жизнь – сторожить эту печать. Терентьевы, увы, не сумели… один из них в ту ночь 1769-го попытался снять плиту, посчитав, что внизу сокрыты монастырские сокровища. Он искал золото, а выпустил пламя. Говорят, именно после этого вспыхнул пожар, уничтоживший обитель. Возможно, кара настигла его сразу – пламя поглотило дерзкого.
– А теперь? – спросил Бунин, чувствуя, как сердце сжимается. – Проклятие… Оно по-прежнему здесь?
Хранитель посмотрел на затухающую свечу. Пламя стало ровным, спокойным.
– Пока печать стоит – город в безопасности. Но ветер истории тревожит её вновь. Вы не случайно оказались здесь, Бунин. Вы – наблюдатель из иного времени, и, может быть, призваны понять то, что ускользает от нас, современных ельчан.
Иван Алексеевич замотал головой – слишком многое обрушилось на него в эти минуты. Вслух же он спросил лишь:
– Что мне делать?
Старик положил руку ему на плечо – неожиданно тёплая, твёрдая рука, не дрожащая, как у дряхлого. Глаза его блеснули.
– Помнить, – произнёс он весомо. – Помнить и не отступать, когда придёт час выбора. Терентьев… Имя, которое вы нашли, – ключ. Вы должны узнать, кто из Терентьевых был предателем, а кто остался верен клятве. Без этого узел не развязать. Тьма сгущается вокруг Ельца вновь – я чувствую. Надвигается что-то… – Хранитель осёкся и вдруг резко поднял голову, будто прислушиваясь.
В тот же миг в верхней части храма что-то глухо стукнуло – возможно, ветер распахнул неплотно закрытое окно на хорах. Тень метнулась под самым потолком. Бунин вздрогнул, а старик суетливо затушил свечу пальцами – в мгновение церковь погрузилась во мрак.
– Тише, – выдохнул хранитель едва слышно.
В холодной тьме Бунин различил, как у притворной двери шевельнулась более густая тень, отделившись от черноты. Кто-то третий был здесь. Сердце Ивана застучало. Неужели враг? Или лишь разыгравшееся воображение? Он вспомнил ощущение, будто за ним следят с момента, как он вошёл.
Но старик уже подтолкнул его к боковой двери алтарной перегородки. Он бесшумно открыл потайную створку и буквально вытолкал Бунина в узкий коридор, шепнув:
– Идите! Быстро, пока не поздно.
– А вы?.. – начал было Иван, но хранитель мягко, но твёрдо вытеснил его наружу, в темноту ночи за храмом.
– Не волнуйтесь за меня. Я тут дом свой знаю лучше. А вам нельзя оставаться – вас ищут.
Дверь за его спиной закрылась, отрезав Бунину возможность возразить. Он оказался снаружи, под звёздным небом. Вдалеке, над крышами Ельца, серп луны еле пробивался сквозь тучи, отбрасывая бледный свет на кресты Вознесенского собора внизу. Ночной ветер хлестнул по разгорячённому лицу, отрезвляя. Иван сделал пару шагов по каменным плитам двора Никольской церкви. Тишина снаружи казалась нереальной после тех откровений и видений. Позади, за бревенчатыми стенами, мог происходить кто знает что, но Бунин понимал – возвращаться сейчас нельзя. Он почувствовал ужас за старика, оставшегося внутри с той таинственной тенью. Но верил – хранитель знает, что делает.
Иван Алексеевич огляделся. Неподалёку в темноте белел небольшой силуэт – та самая часовня-шлем, возведённая на братской могиле жертв Тамерлана. Её купол-шлем едва отражал лунный свет, навевая мысль о безмолвных стражах. Стражи города… Бунин невольно подумал о всех тех, кто веками берёг Елец от новой беды, и о тех, кто однажды предал. Теперь и он стал частью этой страшной загадки. Холодная тревога сжала сердце: угроза, о которой предупреждал хранитель, была реальна – она уже рядом, прячется в тенях.
Бунину вдруг почудилось, что возле часовни скользнула фигура – слишком высокая и чуждая, чтобы быть простым прохожим. Он прищурился: пусто. Только тени от деревьев. Но писатель знал: что-то надвигается. И он, каким-то чудом заброшенный в современный Елец из своего времени, оказался вовлечён в битву не на жизнь, а на смерть – битву, начало которой лежит в глубине веков, в проклятии Тамерлана и тайной клятве хранителей.
Иван Алексеевич глубоко вдохнул ночной воздух, стараясь унять дрожь. Его ждала долгая ночь размышлений – и, возможно, новых опасностей. Но теперь у него была нить, что вела сквозь лабиринт истории: имя Терентьев, скреплённое кровью героев и позором предателей.
Бунину предстояло распутать эту нить. Он бросил последний взгляд на тёмный силуэт Никольского храма за спиной – окна его были черны, ни огонька. Хранитель скрылся вместе со своими тайнами. Что ж, теперь часть этих тайн лежала и на плечах писателя. Он поспешил прочь со двора, растворяясь в узкой улочке. За спиной будто бы послышался далёкий звук – то ли стон ветра, то ли вздох облегчения старых стен, переживших ещё одну ночь.
Над Ельцом сгущались тяжёлые тучи, закрывая луну. Ветер донёс с холмов приглушённое эхо – то ли раскат грома вдалеке, то ли лошадиное ржание. Бунин ускорил шаг, чувствуя спиной невидимый взгляд. История по-прежнему смотрела на него – и угроза не отступила, а только приблизилась. Впереди была тьма, полная секретов прошлого, и приближался час, когда тайное братство и древнее проклятие схлестнутся вновь. Иван твёрже сжал спрятанную в кармане старую плиту-талисман с выцветшей надписью «Терентьев» и скрылся за углом. Спасительный свет уличного фонаря впереди казался ему лучом надежды в надвигающейся мгле. Он исчез в этой полосе света, оставляя за собой промозглый мрак, из которого донёсся еле слышный шёпот – шорох веков, продолжавших наблюдать за каждым его шагом.
Глава 8. Время князя Фёдора Елецкого
«…и приде близь предел Рязаньския земли, и взя град Елечь, князя Елечьского изыма, и много людей помучи…»
– Из летописного сказания о нашествии Тамерлана (1395 г.)
Я очнулся в глухой предутренний час, окружённый чужой темнотой. Вокруг меня колыхались тени деревянного города, застылого в тревожном ожидании. Ночные облака низко висели над зубчатыми силуэтами крепостных стен, отражая багровый отсвет далёких костров. Пахло дымом и гарью – сладковатым запахом пепла, который бывает, когда горят поля и сёла. Елец… Мгновение назад я был в тихом полумраке Никольского храма своего времени, разговаривал с хранителем, слышал имя Терентьев, – и вот теперь стою на неровной булыжной мостовой столетия назад. В груди застучало: видение перенесло меня в ту самую роковую ночь перед нашествием Тамерлана.
Я сделал несколько нетвёрдых шагов. Под ногами хрустнули щепки – часть разбитой телеги, брошенной посреди улицы. По обеим сторонам теснились тёмные срубы избы; в узких оконцах вспыхивали огоньки свечей – жители не спали. Сквозь приоткрытую ставню я мельком увидел испуганные лица женщин, прижавших к себе детей. Тишину разрывал далёкий гул – то с поля за рекой доносился рёв множества голосов, ржание коней и бряцание стали. Там, за чёрной стеной ночи, стояло невообразимо огромное войско.
На миг меня охватил леденящий страх. Хотелось укрыться, спрятаться, закрыть уши от набатного молчания ночи. Но я заставил себя идти дальше. По улице бегом промчались двое ратников с копьями, неся куда-то связки стрел. Один из них на бегу бросил другому: «Князь созывает дружину у вечевого колокола, скорей!» – и они скрылись за поворотом. Я пошёл следом, стараясь держаться в тени бревенчатых стен.
Чем ближе к центру города, тем больше народу встречалось. Из тьмы выплыли очертания главной башни крепости. Там, на помосте у большого колокола, мерцали факелы, освещая собравшихся. Я смешался с группой опоздавших ополченцев. Люди вокруг держали в руках топоры, рогатины, кто-то просто дубину. У многих лица были бледны, глаза лихорадочно блестели. Но в этих глазах читалось и упорство. Слышался шёпот: «Тамерлан уже близко… Последняя ночь перед боем…»
Над нами навис мощный голос: князь Фёдор Елецкий говорил со стены башни. Я приподнял голову, стараясь разглядеть его. Свет факелов дрожал на стальных бляхах его доспеха. Лицо князя оставалось в тени шлема, но голос его был ясен и твёрд, перекрывая треск пламени и далёкий шум вражеского стана.
– Братья! – звучал его гулкий голос. – Час испытания настал. Страшный враг стоит у наших ворот. Не в первый раз орда грозит земле елецкой – но вспомните дедов и отцов наших: они держали оборону против Батыя, и мы выстоим против Темир-Аксакала!
Люди вокруг меня зашевелились, перекрестились при слове «Темир-Аксакал» – «Железный Хромец», так по легенде звали Тамерлана. Кто-то тихо всхлипнул, но быстро стих. Князь продолжал, каждое слово падало, как камень:
– Грозный царь восточный потребовал покориться, сулил пощаду, если откроем ворота. Но разве можем мы предать Русь и веру нашу?
– Не-е-ет! – единым шёпотом и стоном ответил народ внизу.
– Лучше смерть, чем неволя, – твёрдо сказал князь. – Лучше стоять насмерть за святыню, чем поклониться басурманину. Я, князь елецкий Фёдор Иванович, клянусь: живым не дамся врагу и города ему не отдам!
При этих словах толпа загудела громче. Кто-то выкрикнул: «Вёдро воды на каждый костёр их, княже, зальём! Побьём супостатов!» – и несколько голосов подхватили браваду. Но большинство молчало, сжав оружие. Обещания князя были отчаянны: все понимали, что сил неравны.
Князь Фёдор вскинул руку, призывая тишину:
– Братья и сёстры! Знаю, тяжко вам. Враги жгут наши сёла, идут к стенам. Но вспомним: мы – последняя преграда на их пути. За нашими спинами – вся Русь. Москва, Рязань – все молятся, чтобы Господь отвёл эту чашу. Так не опозорим же земли русской! Постоим за родной очаг, за жен и детей наших, за веру Христову!