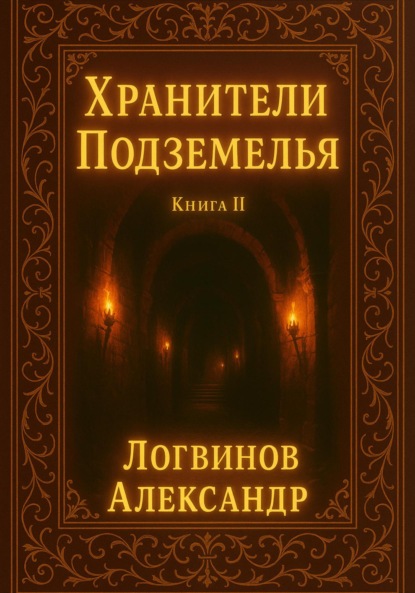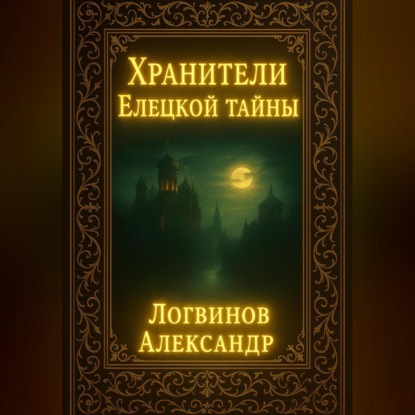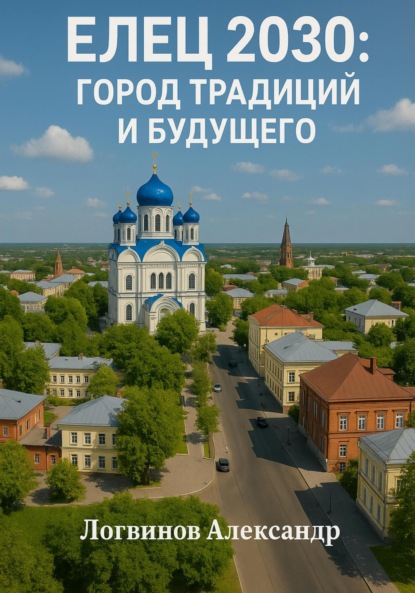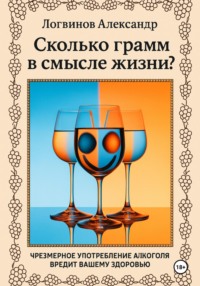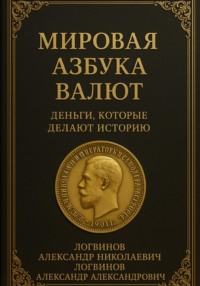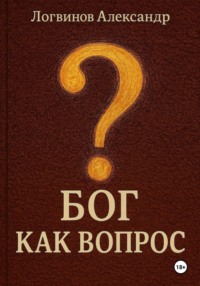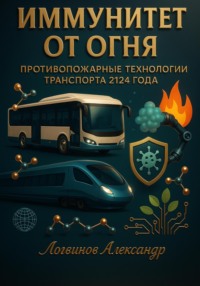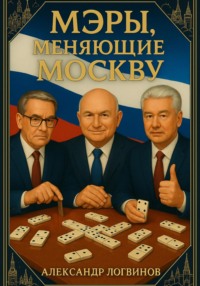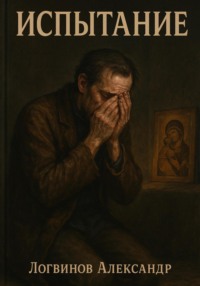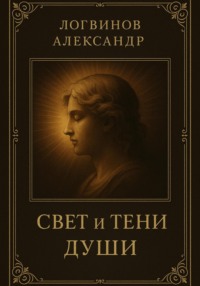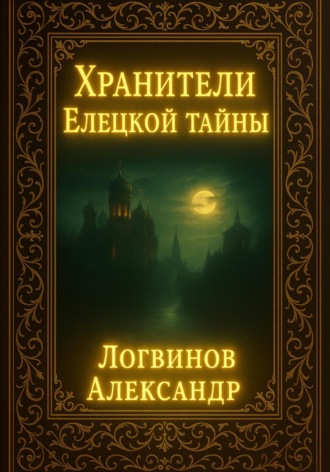
Полная версия
Хранители Елецкой тайны

Александр Логвинов
Хранители Елецкой тайны
Елец не раскрывает своих тайн – он выбирает тех, кому позволено их услышать.
Глава 1. Аромат антоновских яблок
Елец – не город, а живое сердце памяти.
В его улицах сплетаются нити прошлого и будущего, в его колоколах звучат голоса мёртвых и живых. И каждый шаг здесь становится частью Внешнего Круга, где жизнь и смерть, тьма и свет соединяются в единую истину.
Пролог
Елец – город, где прошлое не ушло окончательно, а лишь притаилось в трещинах старых стен и подземных ходах. Ночной город затаивает дыхание: по булыжным мостовым стучит тихий дождь, и в лужах отражаются дрожащие огни фонарей. Кажется, будто каждый камень мостовой хранит память о давних набегах и чудесных возрождениях – вода на мгновение превращается в зеркало прошлого, где могут мелькнуть тени ушедших эпох. Над темнеющими куполами соборов, словно невидимые стражи, витают не только сонные голуби, но и тени древних преданий. В этот час ночной тишины город живёт своей тайной жизнью, шепча о том, что было и что ещё будет.
История Ельца – череда огня и пепла, разрушений и чудесных избавлений. Город пережил нашествия и пожары, и каждый раз словно восставал из пепла. Но что, если легенды о чудотворных иконах, подземных катакомбах и сокрытых кладах – не просто украшение прошлого, а ключи к тайнам, продолжающим влиять на настоящее?
Елец – это не просто точка на карте, а узел времени, где перекрещиваются судьбы людей, призраков и невидимых сил. Здесь возможно всё: средневековый князь, павший под ударами Тамерлана, может заговорить с путником во сне; подземные ходы способны вывести к скрытым сокровищам – или в объятия древней тьмы; а колокольный звон вдруг откликается эхом из веков, путая прошлое и настоящее. В этом городе призрак купца позапрошлого века легко приветствует тень красноармейца, ведь город видел и закат империи, и зарю новой эры. Здесь века переговариваются между собой шёпотом в переулках, и любая тень может оказаться отголоском давно ушедшей судьбы.
У этого городa есть сердце и память, запечатлённая в камне. На Красной площади величественно возвышается Вознесенский собор – душа Ельца, вечный хранитель молитв и тишины. В отдалении ютится мрачный корпус старой тюрьмы: её стены до сих пор помнят тяжкие стоны узников, а легенда рассказывает о подземном ходе, соединяющем тюремные казематы с ближайшим монастырём. А под опущенным занавесом городского театра затаились призраки муз: старинная сцена, видевшая и бенефисы, и трагедии, будто ждёт, когда оживут её кулисы и вспыхнут свечи прошлого.
Даже рыночная площадь хранит отпечаток древних сил. Там, где сегодня шумит торг, в языческие времена женщины собирались на тайные обряды в честь богини Мокоши – древней покровительницы женского начала. Говорят, на этом холме когда-то горели ночные костры и звучали заклинания, и эхо тех ритуалов до сих пор слышно в глубине елецкой земли. Прошли века, но женская нить не оборвалась: впоследствии Елец прославился мастерицами кружевоплетения – их тончайшие узоры словно вплели древний орнамент легенд в новое полотно. На том самом «женском рынке» шёпот истории сливался со стуком коклюшек – быть может, сами того не зная, эти женщины вновь ткали судьбу города.
И вот по пустынной ночной улице шагает одинокий путник – странник между мирами, гость из тени иного бытия. Иван Бунин, поэт с душой странника, возвращается в город своей юности, словно призрак памяти. В мерцающем полумраке он проходит сквозь время: ему слышатся отголоски гимназических лет, когда эти мостовые помнили его юные шаги. Теперь же каждый шорох отзывается в его сердце далёким эхом – будто великий хронист судьбы ведёт его по лабиринту улиц, невидимой нитью связывая настоящее с прошедшим.
Ему навстречу из тёмной подворотни бесшумно выходят двое крупных псов. Мокрая шерсть чёрных собак поблёскивает в лунном свете, и их умные глаза смотрят внимательно и спокойно. Они словно ждали его – провожатые ночи, посланцы самого города, чтобы указать путь туда, куда обычные дороги не ведут. Бунин следует за своими молчаливыми поводырями, и шаги его отдаются музыкой памяти: кажется, вдали играет приглушённая гармоника или напевает невидимый хор в заброшенной часовне. Мимо плывут тени: на миг мелькнул силуэт в старинном платье на балконе театра, а за ним растворился в тумане всадник в гусарском ментике. Чем глубже поэт углубляется в лабиринт переулков, тем призрачнее становится реальность вокруг, сплетаясь с видениями. Город открывает ему свой мистический узор – тайный круг памяти, в котором сходятся все дороги, все судьбы, все тайны Ельца. Этот Внешний Круг замыкается вокруг путника, но лишь затем, чтобы вновь разомкнуться – впереди брезжит рассвет новой главы, и древний город готов поделиться своими откровениями с теми, кто способен услышать его музыку.
Аромат антоновских яблок
Вечерние сумерки мягко окутывали старинные улочки Ельца. На западе небеса еще тлели малиново-золотым отблеском заходящего солнца, но в переулках уже сгущалась синеватая тень. Воздух был прозрачен и тих, лишь изредка тишину нарушал далекий звук автомобильного двигателя да редкий шаг запоздавшего прохожего по потрескавшимся плитам тротуара. Город казался почти безлюдным в этот час, словно дыхание времени здесь затаилось между старыми особняками с облупившейся штукатуркой и покосившимися деревянными заборами. Иван Алексеевич остановился на углу, вдохнул глубоко – и вдруг явственно ощутил тонкий, сладковатый запах, знакомый до боли: запах антоновских яблок.
Откуда в центре современного города этот аромат спелых яблок позднего лета? Он огляделся. Неподалеку виднелся старый заброшенный сад за кованой оградой бывшей усадьбы купца с выщербленными колоннами. Может быть, оттуда ветром донесло дуновение – где-нибудь под раскидистой яблоней, покрытой первыми опавшими желтыми листьями, притаились в траве забытые плоды. Сердце его сжалось: столь остро нахлынувший аромат мгновенно перенес сознание на десятилетия назад, в юность. В памяти встали строки когда-то им же написанные – «Антоновские яблоки». Тогда это был литературный образ, метафора уходящей дворянской старины, а сейчас – реальность, знак, тайный шепот прошлого, прорвавшийся в сегодняшний день.
Иван Алексеевич медленно пошел дальше, стараясь удержать это видение памяти. Сквозь сумрак вырисовывались знакомые с детства очертания – высокий фасад бывшей Елецкой мужской гимназии. Именно здесь, за этими тяжелыми дубовыми дверями с потемневшим от времени гербом, прошли пять лет его отрочества. Теперь над входом красовалась новая вывеска: «Гимназия № 1 имени М.М. Пришвина». Под ней прикреплена мемориальная доска, где бронзой выбито его собственное имя – И.А. Бунин, ученик этих стен в 1881–1886 годах. Иван Алексеевич невольно улыбнулся уголками губ: как странно видеть увековеченным то, что когда-то казалось таким обыденным и тягостным – школьные будни, классы, перемены, запах мела и чернил. Тогда он и представить не мог, что когда-нибудь его имя станет гордостью гимназии, да и всего города.
Перед зданием в полумраке белел силуэт памятника. Иван Алексеевич подошел ближе. На гранитном постаменте застыл стройный гимназист с книгой под мышкой – сам Иван в юности, каким его, оказывается, помнят. Скульптор запечатлел тонкие черты лица, в которых угадывались мечтательность и упрямство; форменная курточка сидела чопорно, как того требовал устав. «Гимназист Иван Бунин» – прочел он на табличке и тихо покачал головой. Призрачная улыбка тронула его губы: выходит, в Ельце живет тень его самого, мальчика, каким он был.
Он провел ладонью по холодному мрамору постамента. Когда-то, более века назад, этот мальчик по утрам спешил по тем же мостовым – ранец за спиной, с пылающими то ли от предвкушения, то ли от тревоги щеками. В сентябрьском воздухе тогда тоже витал запах яблок и дымок дальних костров – крестьяне жгли сухую траву в окрестных полях. Всё было почти таким же: высокий кованый забор гимназии, старые липы у дороги, их листья шуршали под ногами. Только тогда город полнился звуками и людьми: на рассвете грохотали телеги на базар, над домами поднимался легкий дым утренних самоваров. А сейчас – тишина, в которой шорох прошлых лет слышался ему явственнее любого звука настоящего.
Оглянувшись, он заметил на противоположной стороне улицы невысокую фигуру в длинном плаще и шляпе, будто наблюдавшую за ним из тени. Однако мимолетный свет фонаря мигнул – и не стало ни фигуры, ни тени. Лишь слабый скрип калитки да шорох ветвей. Иван Алексеевич почувствовал легкий холодок: не обман ли зрения? Быть может, игра воображения, всполошенного воспоминаниями? Он поднял воротник своего пальто и направился дальше, к центру города – туда, где над крышами возвышался темный силуэт Вознесенского собора на Каменной горе.
С детства эта крутая гора, увенчанная величавым храмом, притягивала его взгляды и мысли. Каменная гора – место легенд и тайн Ельца. Старая байка гласила, что от самого собора в глубине холма начинаются подземные ходы. Говорили, туннели тянутся от церковных крипт далеко за город, к самым Воргольским скалам над рекой. Будто бы в давние времена, в лихой год нашествия Тамерлана, ельчане рыли под землей ходы, спасаясь от врага и пряча сокровенное. А после – что-то осталось спрятанным в тех катакомбах. Глухо передавались из поколения в поколение слухи о кладах, зарытых под Воргольскими скалами, о золоте, покой которого стерегут тени погибших воинов. Кто знает, правда ли?
Иван в гимназические годы слушал эти истории с горящими глазами, тайком бегал с товарищем на Каменную гору искать в кустах провал или потайную дверь. Однажды им даже померещилось в полуразрушенном подвале старого дома у подножия собора что-то вроде арочного прохода, ведущего в недра холма. Тогда мальчишки перепугались собственных смелых открытий: ночами снились подземелья, шорохи и странные огоньки в глубине тоннеля. Да и запретно это было – лазать по заброшенным подвалам. Так и осталось таинство неразгаданным.
Теперь Иван Алексеевич замедлил шаг у подножия Каменной горы. Огромный Вознесенский собор возносился к небу темными массами куполов. На их крестах едва уловимо поблескивал отсвет уличных фонарей – лунный свет еще не пробился сквозь облака. Вверх вели широкие каменные ступени. Он помнил эти ступени – когда-то по ним же поднимался в праздник, шагая в колонне гимназистов на торжественную всенощную. В памяти всплыло далекое: строй мальчиков в форменных сюртуках тянется следом за классным наставником, впереди мерцают свечи, пахнет воском и ладаном, над площадью разливается малиновый благовест. То был Покровский храм, который они посещали каждое воскресенье. А ныне он уже не существовал в прежнем виде… Но Вознесенский собор уцелел. Тишина окружала его сейчас, только ветер шевелил верхушки старых лип.
Иван Алексеевич поднялся по ступеням. Двери храма были заперты – день давно миновал, служба окончена. Он прислонился спиной к прохладной каменной колонне, глядя на город, раскинувшийся внизу. Отсюда, с высоты, Елец все еще хранил свой провинциальный патриархальный облик. Те же тесные кварталы под красными черепичными крышами, узорчатые наличники на окнах, колокольни церквей, чудом сохранившихся после лихолетья. Лишь вдали, за рекой, тускло мерцали силуэты новых заводских ангаров да цепочка электрических огней на мосту – метки иного столетия.
«Неужели это я – тот самый гимназист, что глядел отсюда более ста лет назад?» – подумал он. Тогда, в юности, душа его рвалась из провинциальной тиши прочь, в большой мир; он мечтал покинуть этот город, что и сделал, так и не окончив гимназии. Юношей он уехал навстречу судьбе – писать, странствовать, познавать чужие страны, испытать и славу, и изгнание. Долгий жизненный путь привел его за океан, и в столичные залы, и в блистательный Париж… Но теперь, на закате времён, необъяснимая сила вновь вернула его на родную елецкую землю. Зачем? Для чего? Может статься, чтобы найти здесь ответы, которых он не нашел в жизни.
Небо на востоке тем временем совсем потемнело, бархатная синева наполнилась холодной глубиной. Внезапно где-то внизу, в городе, раздался звон колокола. Один протяжный удар – низкий, медный. Потом второй. Гулкий звук покатился над крышами, по долине Сосны, отзываясь эхом. Иван Алексеевич замер. Колокол пробил час ночи или это лишь наваждение? В Ельце давно уже мало где звонят ночью… Но этот звук был слишком отчетлив. И – знаком. Казалось, он слышит тот самый благовест из прошлого, когда на звоннице Васька-звонарь раскачивал тяжелое било. Сердце его екнуло: в юности он восторженно вслушивался в могучий колокольный гул, и тогда казалось, будто сама душа летит над городом вместе с вихрем медных голосов.
В тишине раздался еще удар, и еще – размеренно, величаво. Невольно он прошептал слова, некогда вычитанные на боку огромного колокола: «Благовествуй земле радость велию…». Эта надпись, увиденная мальчиком на литом бронзовом боку, запечатлелась в памяти навсегда. И вот сейчас, когда небо и земля, казалось, замерли в преддверии неведомого, эти слова прозвучали как напоминание и как предзнаменование.
Звон стих. Иван Алексеевич прислушался – город снова погрузился в сонную дремоту. Но с последним эхом колокола ему почудились иные отзвуки – едва различимый ропот, шорох времени. Будто из глубины холма, из тех самых подземелий, донесся приглушенный звук – то ли вздох, то ли стон. Он обернулся на запертую дверь собора: за тяжелыми створками мерещился слабый отблеск, как от свечи, хотя внутри не должно быть огня. На миг ему послышался шепот молитвы или приглушенный плач. Словно где-то под сводами плакал ребенок или женщина.
Иван шагнул назад, вглядываясь в темноту. Зрение уже привыкло к ночи, и он различал теперь каждый камень. Внизу под лестницей – движение? Мелькнула ли снова та загадочная фигура в плаще? Ему захотелось окликнуть, спросить, кто здесь. Но голос застрял в горле. Лишь эхо его собственных шагов откликнулось с опозданием.
Наконец он перевел дух и, справившись с волнением, произнес негромко в пустоту:
– Есть здесь кто-нибудь?
Ему ответило молчание. Но едва он произнес эти слова, как ветхий дубовый портал собора… приоткрылся с протяжным скрипом. Иван Алексеевич вздрогнул. Дверь, которую он минуту назад видел наглухо закрытой, теперь была чуть распахнута, словно приглашая войти. В темном проеме плыли тени.
Несколько секунд он стоял, борясь с собой. Разум подсказывал осторожность – разве можно ночью проникать в храм, да еще в столь таинственных обстоятельствах? Но какая-то неведомая сила уже тянула его вперед. Точно мальчишка, движимый любопытством сильнее страха, он шагнул к раскрытой двери.
Привычным жестом перекрестившись, Иван Алексеевич переступил порог Вознесенского собора и растворился во мраке, где его уже ждали голоса прошлого и тайны давно минувших дней…
Глава 2. Связь Бунина с мистическим прошлым Ельца
Иван Бунин стоял в полумраке Вознесенского собора, окружённый тишиной, словно бездонным колодцем времени. Высокие своды терялись в сумрачной выси, тусклый свет вечерних облаков проникал через витражи, окрашивая пыльный воздух нереальными оттенками. Под ногами – старые плиты пола, стертые тысячами шагов, хранили шорох давних лет.
Бунин невольно задержал дыхание: казалось, ещё миг – и в тишине проступят шаги невидимых паломников или эхом отзовётся древнее пение. Сердце стучало гулко и медленно, как колокол под сводами. Он чувствовал: здесь, в этом храме, границы времени истончаются. Сквозь толщу веков начинало пробиваться что-то чужое и знакомое одновременно, как если бы стены, напитанные молитвами, шептали ему истории прошлого.
Он медленно пошёл вперёд по центральному нефу, стараясь не нарушить спокойствие пустого собора. Взгляд его блуждал по иконам в мерцающем полумраке: лики святых, строгие и печальные, словно смотрели прямо на него сквозь столетия. У подножия одной колонны Иван заметил странную деталь – между плитами пола виднелся пожелтевший уголок бумаги или пергамента, словно там что-то застряло.
Он опустился на колени, провёл пальцами по краю камня. Плита чуть поддалась – совсем немного, но хватило, чтобы осторожно вытащить находку. Это оказался свёрнутый в несколько слоёв кусок древнего пергамента, потрёпанного и едва держащегося от времени. Бунин осторожно развернул его дрожащими пальцами. Бумага была покрыта выцветшими строчками чернил, написанных старинным почерком. На миг Иван зажмурился, не веря себе: неужели он держит в руках письмо из глубины веков?
Приблизившись ближе к пучку света из окна, он начал разбирать вязь букв. Чернила выцвели, местами текст расплылся, но некоторые фразы всё же можно было прочесть. Язык слога был древним, торжественным – будто говорил с ним сам летописец минувших времён. Иван стал читать про себя, погружаясь в каждое слово, словно проваливаясь сквозь строчки в другую реальность:
Из старого манускрипта:
…Погребохом мы телеса христiанскія кое-как в руїнах монастырского двора. Не бе нам ни помощи, ни милости от князей Рязанских – оставиша нас. А враг безбожный, пожегши град, ста на холму близ рѣки, стал почивать. И ту нощью посла ему Господь видѣние страшное: привидѣся царю тому во сне сама Пречистая Дѣва в окруженіи воинства небеснаго. И ужасеся Тамерлан без меры, и побѣже прочь испуганный, отступи от предѣлов Русских. Так избави Господь прочая грады от разорения. Да будет же сія повѣсть памятна в родах грядущих…В лето 6903 от сотворения мiра (1395 от Рождества Христова) прииде к граду нашему Ельцу царь безбожный Темир Аксак. И обступиша полки его град Елец стен крепких, и предложи князю нашему Феодору сдаться без боя. Но не склонiся князь и весь народ елецкий, рекоша: лучше нам умрети, нежели живыми в руки басурманам датися. И бысть брань лютая: три дни и нощи стояли стены, и много паде воинства Тамерланова пред мужеством христiанским. А на четвёртый день силы наши оскудеша, пожар великый объя град, и вломишася вороги внутрь стен. Не осталось на Ельце ни улицы, ни двора невредимаго, всё огнь пожра. Воинство наше посече до единого, и сам князь Феодор с дружиною своею и бояры в полон отведени быша. И ни слуху, ни вѣсти более о них. Кровь текла рекой, и стон стоял до небес…
Бунин опустил лист, не чувствуя, как пересохли губы. Древние слова пульсировали у него в сознании, сливаясь с бешеным стуком сердца. На мгновение реальность содрогнулась: ему почудилось, будто воздух вокруг загустел, потемнел, как перед грозой, и из этой набежавшей тьмы выступают образы.
В нос ударил резкий запах гари, хотя в соборе не было огня. В ушах пролился отголосок далёкого крика – то ли ветер завыл в колокольне, то ли донёсся сквозь время предсмертный вопль. Иван застыл, охваченный видением: вот мимо него, точно тени, пробегают обезумевшие люди в древних одеждах; плачущая женщина с дитём на руках проскальзывает меж колонн, и её облик тает во мраке. Огненная зарева мерцает за высокими окнами, раскатываясь багровым отблеском по стенам. Эхо раздаётся – грохот падающей балки или удар тарана о ворота крепости?
Бунин шагнул назад, прижимая к груди дряхлый пергамент. На миг ему показалось, что он уже не Иван, стоящий в храме XXI века, а кто-то другой. Чужое сознание тонкой нитью вплелось в его собственное. Перед внутренним взором вспыхивают образы, один за другим:
…Вот князь Фёдор, раненый и закованный в цепи, стоит на коленях среди пепелища. Лицо его испачкано копотью и кровью, но глаза горят непокорённым огнём. Несколько воинов в чужеземных доспехах тянут князя за верёвки, уводя прочь из охваченного пламенем города. Фёдор оборачивается на последний взгляд: на месте Ельца – одни руины, красное небо заволокли столбы дыма. Князь шепчет молитву или чьё-то имя, прежде чем тьма заслоняет его облик…
…Теперь перед глазами Ивана дрожит другой образ: седой монах-летописец, укрывшийся среди полуразрушенных стен обители. Его лицо мокро от слёз, губы беззвучно шепчут молитвы за убиенных. Он торопливо царапает гусиным пером по последнему уцелевшему клочку пергамента. Кажется, каждое слово отдаётся болью в его сердце, но он пишет – пишет, чтобы сохранить память о трагедии. Вот монах прячет свернутый свиток в расщелине под каменной плитой и прижимает дрожащую руку к холодному полу, словно поручая земле эту тайну. Внезапно шум – приближаются чьи-то шаги и грубые голоса. Монах вскидывает голову; в глазах его мгновенный ужас, потом решимость. Он прижимается спиной к камню, шепчет: "Да будет воля Твоя…" Мгновение – и тень с саблей мелькает за его спиной. Видение разрывается.
Иван пошатнулся, прижимая руку ко лбу. Перед ним снова стоял величественный алтарь Вознесенского собора; тени от свечей мирно дрожали на позолоте и иконах. Неясно, сколько длился этот провал в прошлое – секунды или вечность. Бунин тяжело дышал, пытаясь понять, действительно ли он видел всё это, или лишь воображение сыграло с ним злую шутку.
Он опустил взгляд на сжатый в ладони обгорелый пергамент. Тот был на месте, реальный, шершавый на ощупь. Никогда ещё грань между явью и памятью не была столь призрачной. В голове звучали отзвуки старинных слов, точно кто-то всё ещё произносил их шёпотом под сводами. Границы времён действительно размылись: минувшее и настоящее на миг слились в одно, и душа Бунина оказалась меж ними.
Иван медленно поднялся с пола. Тишина вновь легла вокруг, но уже не казалась пустой. Теперь он знал: в этой тишине скрываются голоса прошлого. Здесь, в старом Ельце, переплелись судьбы и века, и какая-то великая тайна разворачивается перед ним. Бунину стало и страшно, и странно радостно: словно незримая рука приоткрыла перед ним завесу, зовя дальше, вглубь неведомого. Он сделал шаг к выходу из собора, но замер на пороге, оглянувшись. Высокие тени колонн легли на каменный пол, образуя узор, смутно напоминающий гигантский силуэт расправленных крыльев или ветвей. Бунину почудилось в этом узоре что-то знакомое – может быть, тот самый олень из городского герба, вставший на дыбы в сиянии пламени. Мгновение – и видение исчезло, лишь дрогнул сине-красный отсвет от витражей. Иван перекрестился, стараясь унять дрожь в руках. Впереди ждало нечто большее, и сердце его наполнилось тревожным предчувствием. Сжимая древний свиток, он шагнул во тьму снаружи, туда, где ночной ветер уже шептал незримые слова, продолжая неоконченную повесть веков.
Глава 3. Икона во тьме
Иван Бунин проснулся на рассвете в холодном поту. Ему снился странный, пугающе явственный сон. Казалось, он очутился в далёком прошлом – в том самом лете 1395 года, когда на Елец обрушилась грозная рать Тамерлана. Во сне он видел узкий каменный коридор, с трудом освещённый дрожащим пламенем факела. Коридор уходил под землю, в сердце елецких холмов. Вокруг – перепуганные люди в старинных одеждах, женщины с узлами, раненые воины с окровавленными повязками. Они спешили по подземному ходу прочь из охваченного пожаром города. Сводчатые стены дрожали от грохота – наверху ещё гремела битва, донёсся далёкий крик трубы и гул обрушившихся построек. Впереди факел нёс высокий монах с измождённым ликом, его глаза горели решимостью. На груди монаха блестел странный медальон – символ, которого Бунин не смог разглядеть до конца, но запомнил смутные очертания: переплетение креста и полумесяца, окружённых лучами. Позади монаха двое молодых послушников несли тяжёлый деревянный ковчег или ларь, окованный железом. Рядом ковылял под руку со сподвижником раненый воин в разорванной кольчуге. «Скорее, дети мои, – торопил шепотом монах, – храни Господь тайну нашу…». Гул сверху нарастал, в тоннеле осыпалась пыль. Один из послушников вскрикнул, оступившись на неровном полу, из-под его ноги покатился камень. Тотчас где-то в глубине тоннеля раздалось гулкое эхо – будто ответ из чёрного чрева земли. Бунин во сне почувствовал леденящий ужас: казалось, тьма сама дышит под этими древними холмами, скрывая и оберегая беглецов. Последнее, что он запомнил из сна, – вспышка яркого света впереди. Монах поднял факел, и на миг в ослепительном сиянии Бунин различил икону – лик Богородицы, парящий в воздухе, окружённый войском небесным. Кто-то из беглецов вскрикнул: “Матерь Божия с нами!” Факел погас порывом ветра, люди в тоннеле остановились в трепете. В темноте раздался низкий голос монаха: “Да откроется благодатью Богородицы путь наш…” Дальше сон растаял в тишине.
Бунин долго лежал, всматриваясь в серый предутренний сумрак комнаты, пытаясь унять сердцебиение. Сон был столь явственным, будто он сам прожил эту сцену из прошлого. Он медленно поднялся и зажёг настольную лампу, дрожащей рукой записал в блокнот несколько фраз, пока они не ускользнули из памяти: подземный ход… монахи… икона… На полях он наспех набросал контуры странного символа, что видел на груди монаха. Чёрные линии на белой странице складывались в нечто зловещее и притягательное одновременно. Иван вспомнил, что подобные причудливые переплетения он уже где-то встречал в Ельце – то ли на старой гравюре, то ли на стене древнего храма. Неужели это всего лишь игра воображения? Он ощутил, как по коже вновь пробежал озноб.