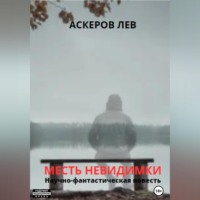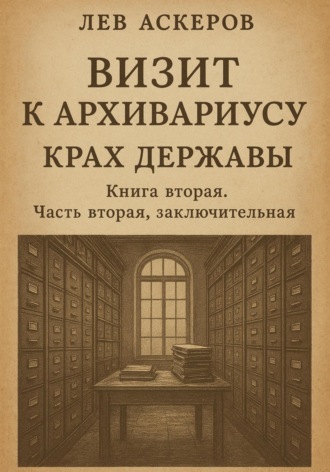
Полная версия
Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах (IV)
– Мысли могут завести в такие дебри – не приведи Господь. Особенно после такого, – согласился Мишиев, извлекая из видеомагнитофона кассету с ходжалинской жутью.
Она не выходила у него из головы. Потому и не спалось. Он, воочию, увидел и в подробностях услышал о Ходжалах только сейчас, спустя год. Почти из первых рук. «Почему почти? – говорит он себе, откладывая в сторону «Мастера и Маргариту». – Центурион в Цезарии был не последним кашеваром на той кухне, где по-живому освежевывали великий Советский Союз».
Семен гасит торшер и подходит к окну.
Ночь. Изумительная ночь. Звезды будто смеются и живо разговаривают и друг с другом, и с Землей, и с людьми. Люди их не понимают. Да большинству из них это и не нужно. Жизнь идет себе и идет.
Каждый день рождает ночь. А ночи рождают дни. Все они неповторимы. А если они родятся – значит и умирают. Как все живое и неживое. И все они, когда родятся, ангельски чисты. Как люди. Правда, с одной, и весьма существенной, разницей. Они чистыми и уходят. А люди – нет. Хорошо по этому поводу написал Маяковский:
Люди – лодки.
Проживешь свое пока,
Много всяких и разных ракушек
Налипают им на бока.
Семен Маяковского не любил. Слишком уж оригинальный он был для него. Слишком уж пичкали им в школе. Как-никак, поэт партии. Основоположник новой поэзии – поэзии социалистического реализма… «Мы говорим Ленин – подразумеваем партия. Мы говорим партия – подразумеваем Ленин»… Кого из ровесников Семена не спроси, все знают эти строки. Их вбивали в мозги, как гвозди. Но строчки о людях-лодках ему никто не вбивал. Они запомнились ему – и всё. Наверное, потому, что люди своим поведением уже тогда заставляли его задумываться о них… Они гадят этот мир. Они вываливают друг друга в грязи, бьют в спину, жалят в сердце. Все они разные, и одинаковое у всех у них, делающее их равными друг с другом – смерть и недолгая память о каждом из них. Они даже на кладбищах лезут вон из кожи, чтобы продемонстрировать, что они, то бишь, их усопшие, а стало быть, и они сами – не такие, как все. Лучше остальных хотя бы тем, что могут поставить шикарное надгробие…
А память – девка-однодневка. Очень уж забывчивая, бестия. Кто помнит о прежнем из тех, кто не пережил его? Да кто и пережил, помнит немногое… Люди помнят Каина больше, чем Авеля. И Иуду помнят, и хорошо помнят тех, кто больше умертвил людей и ни во что их не ставил. Помнят не приносящих добро, а творящих зло.
Люди порочны. И порок их в разуме. Хотя, в принципе, он устремлен к познанию. К познанию себя, мира и миров. Разумеется, в идеале. Таков он в единицах. В подавляющем же своем большинстве он далек от идеала… Уж кто-кто, а он, Семен, неоднократно размышляя об этом и, наблюдая за людьми, и за собой, в свои полста, пришел к этому убеждению, сломать которое он не находил аргументов.
Вывод его был однозначным: порочность разума – в некоей провоцир ующей сущности, делающей каждого из нас неоднородными, разными. Беда не в «разноязыкости», не в нациях, традициях и обычаях, а в другом. В самом главном. В неодинаковом мышлении, понимании и связанных с этим реакциях на окружающее. На ту или иную ситуацию. То есть порок разума – в разной разумности людей. Горе от ума не в том, что он много знает, а в том, что знания его не находят отклика у себе подобных. Его не понимают.
Как этого не заметили те самые единицы, составляющие идеал разумности? Не могли они на это не обратить внимание. А кто их, впрочем, слышал? Находились, конечно, такие. Но их так всегда мало! А другие не слышали не потому, что не хотели – они не могли этого. Не позволял не багаж начитанности и просвещенности, а дефект разума, заложенного в нем той самой сущностью.
А она, та самая провоцирующая сущность, делающая род людской несовершенным, более животным, чем человеческим, лежит на поверхности. Ее не видят, но все ощущают. Может, эта мысль покажется кому дикой, но это не что иное, как Время. Его Пространство. У каждого человека свое пространство времени, в котором он живет, думает, воспринимает и реагирует. И дело не в антагонизме выдуманных Марксом классов, а в антагонизме, вызванном разным пониманием людьми одних и тех же вещей, ценностей и самого бытия. Он то и порождает поступки, мораль, образ жизни…
Над всем и вся – и в обиходе, и в науке – господствуют люди с ограниченным пространством личного поля времени, определяющего их позицию. И не потому ли зачастую мир нам кажется адом? Хотя не для мук земных мы пришли сюда, а для того, чтобы стать людьми – Человечеством. И Господь подсказками своими подталкивает нас к этому. Мы видим их, но не утруждаем себя познать их. Хуже всего то, что господствующее большинство отмахивается от них. И мы проходим мимо. Проходим и творим Хатынь, Ходжалы, Хиросиму, Соловки, Бухенвальд…
Но не Господь опустится до нас, а мы должны подняться до него…
Мишиев отходит от окна и, кряхтя от боли в пояснице, тяжело опускается под торшер, на кресло.
«Любопытно, – говорит он себе, – большинство начинают понимать это под занавес жизни. Наверное, потому, что личное поле времени каждого начинает замыкаться на потустороннее, Божье…»
Он уже спал, не чувствуя, что спит. Он был уверен, что бодрствует и продолжает смотреть в ночь. Она навевает ему печаль. На глаза наворачиваются слезы. Он видит и глаза свои. Они в золотой поволоке слез. И слышит он себя, читающего Лермонтова.
В небесах торжественно и чудно!
Вся Земля в сиянье голубом.
Отчего мне больно так и грустно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?
Нет, не жду от жизни ничего я.
И не жаль мне прошлого ничуть…
«Я жду и я жалею», – бормочет он спросонок, а ответить себе же, что ждет и о чем жалеет, – он не в состоянии. Мысль скользит по вязкой синеве лунным зайчиком. И ловить ее ему не хочется. «Она меня сама ведет», – лениво думает он. И снова слышит себя, уверенно декламирующего то, чего никогда не помнил. То, что в юности читал. То, что, его впечатлило. Но этого он не заучивал.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края…
… Без сожаленья и участья
Смотреть на землю станешь ты.
Где нет не истинного счастья,
Ни долговечной красоты.
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить… 7
Это же «Демон», – с радостью узнает он. И вдруг чувствует и видит, как возглас радости его, срываясь, летит в бездну. И все меняется. Ни зги. Темь, тучи, рев моря и злой ветер. И, аки волки, щёлкают искрами звезды…
Он задыхается. Ему страшно. Мгла свинцовой грудью плющит камни и людей. И во всполохах молний он видит, как, извиваясь в судорогах и, обливаясь кровью, пропадает целая страна. Пропадает в муках. И он слышит отчаянный детский крик: «Не убивайте, дяденька!»…
Рядом с ним еще кто-то. Его появление Семена нисколько не удивляет. Не удивляют и странные одежды его. Так одеваются арабы в жарких странах. Шелковый платок закрывает лицо. И карие с бездонной грустью глаза его, никуда не смотрят, но видят все. Он сидит на камне. Выпростав из хитона правую руку, он перебирает четки. Семен впивается глазами в его тонкие пальцы. Нет, не на пальцы, а на один, указательный. На нём, небесной звездой, сверкает перстень. Он гипнотизирует. Он властно тянет к себе. Семен наклоняется к перстню, а на нем лазурью небес, арабской вязью, на древнем иудейском – «Все пройдет!»
Семен с благоговением поднимает взгляд на царя царей. Соломон не смотрит на него. Но он видит его. Он понимает его. И с невыразимой скорбью во взгляде, блуждающему по далям, кивает головой. Семен слышит его, хотя он молчит. Семен понимает его, хотя он не говорит.
5.
– Рони! Рони! Включай телевизор! Быстро! – кричит Нэнси.
Встревоженный крик жены выбрасывает Рейгана из дремоты. Пока он выпутывался из пледа, пока искал, всегда не кстати, исчезающий пульт, уже ничего интересного на экране не было. Только диктор, чему-то улыбаясь, говорил: «А теперь о погоде. Она, как сообщили нам синоптики, в северной части страны ожидается холодной. Будем надеяться, не такой холодной, как в Сибири, где женщины, чтобы согреться, отвешивают оплеухи сильным мира сего…»
– Что за ахинею он несет!? – раздраженно кривится Рейган и собирается нажать на красную кнопку.
– Не надо, Рони. Через пятнадцать минут повтор. Это стоит посмотреть.
– Что, убиенные Кеннеди гоняются по Бродвею за Джонсоном?.. Весь народ Ким Чен Ира околел от голода?.. Цунами накрыл Париж?..
– Смешнее, Рони… Сам увидишь, – обещает она.
Состроив капризную мину, Рейган с вопрошающей требовательностью смотрит на жену. А она, загадочно улыбаясь, молчит. Рейган злится. Нэнси знает, что он злится. Это хорошо. Когда он раздражен, у него не случаются провалы в памяти. В расслабленном состоянии забывает даже, что она – это она, его благоверная. Буквально днями, когда Нэнси подкладывала ему под одеяло электрогрелку, он задрыгал ногами и крепко, вцепившись ей в локоть, спросил: «Кто ты?!»
«Не пинайся, Рони! Хватит лицедействовать! Мне больно», – возмутилась она, полагая, что муж притворяется.
А он, отпрянув к спинке кровати и, подобрав под себя ноги, заорал: «Нэнси! Нэнси, бегом сюда! Тут чужая женщина. Подкладывает под меня ток».
Тогда Нэнси и поняла: он не шутит. Эта странная болезнь дала о себе знать вскоре после того, как они из Белого дома переехали к себе на ранчо. Сначала ее симптомы не очень пугали ее. Она относила их к склеротическим чудачествам мозга. А потом не на шутку испугалась… Эта напасть прогрессировала на глазах. Рони терял ориентацию, начисто забывал где находится. Однажды, гуляя в саду, неподалеку от дома, она вдруг услышала его, полный жуткого страха, панический зов: «Кто-нибудь! Ради бога, кто-нибудь! Помогите!..» Почти вся прислуга изо всех щелей ранчо бросилась на его крик.
Накинув на себя пончо, поспешила и она.
Рони стоял в окружении челяди и, явно никого из них не узнавая, спрашивал: «Вы знаете кто я?» «Да, сэр, знаем» – в разноголосицу отвечали они. А он, не слыша их, говорил: «Я – президент США Рональд Рейган!» И просил вывести его отсюда. Подбегавшую Нэнси он узнал сразу и бросился к ней: «Ты тоже здесь?! Давай выбираться из этих чертовых джунглей… В какую сторону идти, знаешь?..» «Конечно, милый», – отгоняя от него прислугу, улыбалась она.
Что стоила ей эта улыбка – один бог знает. Сердце обмерло от дебильного взгляда и резких взмахов рук мужа, словно ощупывающих и что-то раздвигающих вокруг себя.
«Пойдем, я выведу тебя. Мы рядом с домом», – говорила она, а он через каждый шаг дергал ее за плечо и шептал, что они идут не туда…
«Вот и наш дом, милый».
«Ты что, Нэнси, совсем рехнулась?.. Это не наш дом!»
«Идем, Рони! Не упрямься! Все будет хорошо…» – она буквально тащила его по ступенькам.
Уже в прихожей он огляделся, прошел к дверям смежной комнаты, толкнул ее, посмотрел вовнутрь, а потом, обернувшись к жене, не без растерянности произнес: «Так мы дома…»
«Конечно, милый».
«Я к себе в кабинет… Распорядись, пусть принесут нам туда по чашечке горячего кофе…»
«Кофе сейчас ни к чему.. Лучше чая».
«Да, чая», – безропотно соглашается он.
Отдав распоряжение прислуге и, позвонив к их лечащему врачу, Нэнси поднялась к нему.
Рональд сидел в кресле, обхватив руками голову. На звук открывшейся двери он, не отнимая рук и, не открывая глаз, спросил: «Нэнси, милая. Что со мной было?»
«Откуда ты знаешь, что это я вошла?»
«Я тебя по походке и по запаху с закрытыми глазами узнаю из миллионов женщин».
Она положила руку ему на плечо. Прижавшись к ней щекой, Рональд, обжигая ее горячим дыханием, негромко и виновато, стал объяснять ей, что произошло.
«Я гулял и вдруг оказался в африканских дебрях… Или еще где… Ты меня подвела к дому, а я его в упор не узнавал… Только в прихожей я пришел в себя… Что со мной, Нэнси?»
«Такое бывает. Это явление склеротического выплеска», – чтобы успокоить его, сходу выдумала она.
После уколов и процедур, прописанных ему доктором психиатрии Квентином Томпсоном, с недели две, а может и больше, ничего подобного с ним не происходило. Рони посвежел, заискрился, стал таким же подвижным и энергичным, как и прежде. Она радовалась, наблюдая, как он в вольере, у конюшни, самозабвенно носился по кругу со своим любимым жеребцом. И уже смотрела сквозь пальцы на то, что Рони отказался пить прописанные Квентином пилюли. И очень скоро ей пришлось пожалеть об этом.
Его сорвало с резьбы в самый неподходящий момент. Хотя подходящих моментов для таких случаев не бывает… Они с ним сидели в гостиной, когда раздался тот телефонный звонок из Мальты. После такого недоразумения Нэнси не могла найти себе места. Надо было, во что бы то ни стало, загладить его, и она попросила соединить ее с Бушем.
– Джорди, дорогой, это снова я, Нэнси. Я в шоке. Представляю, каково тебе. Это не он с тобой говорил. Его мерзкая хворь. Ты же знаешь, как он тебя любит…
И она рассказала обо всех странностях, что в последний год происходили с ее мужем.
– Нэнси, дорогая, я понимаю тебя. Чем я могу помочь?..
И Нэнси, невозмутимая Нэнси, которую в Белом доме называли «Усмешка алмаза», всхлипнула.
– Не надо Нэнси. Успокойся…
Уже не сдерживая рыданий, она успела только пролепетать:
– До свидания, Джорди… Извини…
После этого случая Нэнси уже не позволяла ни себе, ни ему расслабляться. Строго следила за графиком приема лекарств. Следила, да не уследила. Рони стал обманывать ее. И делал это искусно.
– Фу, какая гадость! – передергивал он плечами, делая вид, что, разжевывая, глотает вложенную ему в рот пилюлю.
Долго морщится и жалобно спрашивает: «Этому чертову курсу когда-нибудь конец настанет?»
«Когда настанет – Томпсон скажет», – отвечала она.
«Значит, его надо подкупить».
«Он врач. А врачи неподкупны».
«Врачи, как и все люди, только и ждут, чтобы их подкупили», – хохочет Рейган.
Нэнси уходит довольная собой, а он, не менее довольный, сует невыпитую таблетку в карман. Не выкидывал в форточку, не бросал и в корзину для бумаг. Ушлая Нэнси в корзине обязательно пороется, а под окном уже для слежки выставила кого-нибудь. А Рональд хитрее ее. Он зашвырнет пилюлю в конский навоз. Его-то ворошить никто не станет.
Сколько этот обман продолжался, Нэнси не знала. Вероятно, не день и не два. И в один из вечеров, когда они смотрели последние новости, хворь снова высунула свою мерзкую рожу.
– Ты смотри, кого показывают! – делая звук громче, говорит она.
– Кто это? – спрашивает он, равнодушно глядя на экран.
– Как кто?! Ельцин. Русский президент. Ты же его знаешь.
– Первый раз вижу. Никогда с ним не встречался.
– Не встречался, но знаешь. Не ты ли, когда транслировали его инаугурацию, вытащил меня из постели, чтобы я посмотрела, на твоего крестника?..
«После встречи с глазу на глаз, – комментировал репортер CNN, – канцлер Германии Гельмут Коль и президент России Борис Ельцин прибыли к месту Берлинской стены, где проходило народное гуляние. Здесь их ждали. Слышите? Люди скандируют: «Ельцин! Ельцин!»…
Затем комментатор умолкает. Идет видеоряд. Ельцин оттесняет от оркестра дирижера и вместо него, стараясь под такт игры музыкантов, размахивает руками. И, дирижируя, он, неуклюже дергаясь, начинает танцевать.
«Вероятно, – снова вступает комментатор, – встреча с глазу на глаз сопровождалась обильным ужином. Я слышу слова моего коллеги, журналиста из «Фигаро». «Я многое видел, – говорит он. – Мне казалось, что меня на свете ничего больше удивить не может. Но этот танец русского медведя – из ряда вон!»… Не могу не согласиться с ним. Это – нечто для Книги Гиннесса»…
– И ты утверждаешь, что я его знаю? – собравшись в колючий ком, бурчит Рейган.
– И утверждаю, и настаиваю! – обернувшись к нему, ледяным тоном произносит она и натыкается на уже знакомый ей бессмысленно блуждающий его взгляд.
«Началось», – мелькнуло у нее.
– Нэнси! – вскипает он. – Почему ты всегда внушаешь мне всякую чушь?! Тебе так и хочется сделать из меня сумасшедшего! Я первый раз вижу этого человека! – Рейган со всего размаха бьет кулаком по журнальному столику. – Я никогда… – начал было он и… осекся, заворочался, смутился и как-то сразу сник.
– Что с тобой, Рони?
– Не понимаю, – бубнит он. – Прости. На меня опять нашло… Это Ельцин… Я его знаю…
И тогда он признался, как обманывал ее.
– Квентин, – делилась она с доктором, – меня удивило неожиданное просветление.
– Такое бывает. Адреналиновый синдром.
– Что это значит?
– При стрессах, гнев то или что другое, происходит выброс адреналина. В таких случаях может наступать просветление.
После того инцидента она не спускала с мужа глаз. И теперь, после приема лекарств, Нэнси обыскивала его, как заправский полицейский. Он послушно раскрывал рот, показывал руки, выворачивал карманы…
После очередного осмотра Томпсон констатировал, что реакции у него адекватные и советовал все-таки не спускать с него глаз. Мнение врача ее обрадовало.
И это его раздражение, связанное с тем, что он не успел к телевизору, тоже было естественным и, как любил выражаться Квентин, адекватным.
…Блок новостей начался ровно через четверть часа. И начался с того сюжета, ради которого Нэнси выдрала мужа из наваливающегося на него сна.
«В России снова кипят страсти, – начал ведущий. – Предвыборные. В этой гонке за кресло главы государства, неожиданно для всех, принял участие лауреат Нобелевской премии, положивший конец «холодной войне», экс-президент СССР Михаил Горбачев. Команда экс-президента рассчитывала на триумф и на то, что у Ельцина, вновь выдвинувшего себя на переизбрание, шансов не останется. Ряд независимых политологов и известных экономистов России не раз выступали с критикой ельциновской политики, которая, установив бандитскую анархию в приватизации вчерашнего народного хозяйства, посадила страну на иглу многомиллионных зарубежных кредитов и, по причине отсутствия в казне денег, привела к полному параличу хозяйственной деятельности, массовой безработице и сотрясающим общество забастовкам рабочих, семьи которых сидят без зарплаты и голодают. Все это и плюс криминальная обстановка, утверждают аналитики, сводят шансы нынешнего президента на переизбрание к нулю. Однако, по их мнению, еще более низкий рейтинг, чем у Ельцина, у лауреата Нобелевской премии, экс-президента СССР Михаила Горбачева. Каждый из нас вправе задаться вопросом: почему? Ведь он видный международный деятель, большой друг американского народа и его любимец… На этот вопрос, дорогие телезрители, лучше всяких слов вам ответит видеосюжет, полученный нами буквально в этот час из сибирского города Красноярска. Накануне Горбачев со своей командой десантировался туда для встречи со своим электоратом. Предрекаемый окружением экс-президента триумф обернулся постыдным конфузом. Впрочем, смотрите и делайте вывод сами»…
…Масса людей. Выражение лиц у всех разное – натянуто-ликующие, напряженные и отрешенно-безразличные.
Звучит характерный, узнаваемый голос Горбачева: «С такими людьми я сделаю Россию процветающей»… Издалека микрофон улавливает едва слышимую чью-то реплику: «Ты сделал уже СССР»…
Претендент подходит к первому ряду толпы. Из нее к нему делает шаг женщина и наотмашь, пятерней бьет его по щеке и кричит: «Иуда!»…
Растерянное лицо претендента. Охрана набрасывается на женщину…
Нэнси с любопытством смотрит на мужа. От шока у него отвисла челюсть. Он отказывался верить своим глазам.
– Ну и ну! – наконец выдохнул он.
– Возможно, эта та самая женщина, дневник сына которой мы с тобой читали.
– Может быть, – задумчиво роняет он…
Видеоряд закончился, и диктор, с сардонической улыбкой, продолжил:
«Вот такой конфуз произошел на ледяных сибирских широтах. У нас комментариев нет. А у вас?»… – интересуется он, в упор уставившись на чету Рейганов.
– Что он за слово подобрал – «конфуз»? – фыркнула Нэнси. – Это не конфуз, а позор!
– Нет, милая, это оценка. Мы ему – Нобеля, а она ему – оплеуху.
– Может, позвонишь?.. Посочувствуешь…
– Не ерничай. Он и так, наверное, затаил на меня обиду.
– Хорошенькое дело, – встрепенулась Нэнси. – Чем, интересно, ты так ему досадил?
– И я и Джорди… Джимми Бейкер после возвращения из своего последнего сентябрьского визита в Кремль позвонил ко мне и сообщил: «Горби хнычет, как перед алтарем обманутый женишок»… Видишь ли, он пеняет мне и Бушу за то, что мы забыли о своих обещаниях…
– Политика и бизнес стояли и будут стоять на мнимых посулах… Что, он этого не знал?!
– Интересное кино получается, – закутываясь в плед, говорит Рейган.
– Ты об этом? – показывает она глазами на телевизор.
– И об этом, и о другом… Один, что обрушил, получает Нобелевскую премию и вселенскую пощечину, а другой на тех руинах во хмелю отплясывает…
– Погоди, Рони. Сделай погромче. Он что-то еще говорит, – просит Нэнси, вперившись в экран.
Диктор смотрит на протянутый ему лист бумаги. Быстро пробежав по нему глазами, он интригующе произносит:
– А вот только что нами получено сообщение, проливающее свет на произошедшее… Как утверждают компетентные органы, женщина, совершившая столь дерзкий поступок, – из контингента местной психиатрической клиники. Однако оппозиционная газета «Красноярский вестник» в репортаже о пребывании Михаила Горбачева в Красноярске по увиденному нами факту пишет следующее:
«Гражданка Козырева (по мужу Аглиуллина) Галина Филипповна имеет средне-техническое образование и 23 года работает чертежницей в конструкторском бюро одного из военных заводов. Последние 10 лет она возглавляла группу чертежников при главном конструкторе предприятия. Как и большинство тружеников края, доведенная до отчаяния невыплатой заработанных плат, пенсий и пособий, пошла на этот шаг протеста вполне осознано, находясь в здравом уме и твердой памяти.
Вырываясь из рук схвативших ее мордоворотов, охранявших лауреата Нобелевской премии Горбачева, Галина Козырева кричала: «Все несчастья от него!»
Наш корреспондент выяснил, что Галина Козырева-Аглиуллина одна воспитывала двух детей. Муж после травмы, полученной им на том же предприятии, умер. В Афганистане погиб ее единственный сын. Сейчас она с дочерью, и у них за душой – ни гроша. Так что усиленно муссируемая официальными органами версия о том, что она психически неполноценна – ложь…
– Кажется, фамилия та же, что и у той женщины, что проходила у нас по Сводному отчету, – потирая виски, припоминает Рейган…
6.
Парень был бакинцем. Семен мог это распознать с закрытыми глазами. По манере говорить. У бакинцев она своя. И совершенно никакого значения не имеет, кто перед тобой – мужчина или женщина, азербайджанец, русский, еврей или татарин… Он – бакинец. Казалось бы, говорит на русском, причем на чистейшем русском, а говорок не таков, какой услышишь в Москве, Питере и тем более в Вологде.
Что, правда, то, правда: он у всех свой. Но бакинский разговорный мотивчик особенный. Восток во славянстве. В нем резкость, вышедшая из нобелевских бараков Черного города, приблатненный жаргон Чемберекенда, Баиловская ершистость портовых грузчиков и моряков, крикливость аробщиков и темперамент забытой ныне Кубинки – знаменитой Бакинской толкучки… А над всем этим – рафинированная интеллигентность незабвенной Торговой, где можно было встретить тех, кого не видел лет сто… Затем часть Торговой горожане прозвали улицей «Миллион за улыбку». Это потому, что за несколько дней до приезда в Баку Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева этот отрезок улицы, ведущий к бульвару, выложили плитами. Для тех времен удовольствие редкое и дорогое…
Паренек, что стоял в дверях лаборатории Мишиева, всего этого мог не знать. Он был слишком молод. И та ностальгия, какую испытывал Семен, ему была неведома.
По первой же фразе, вылетевшей с его губ, Мишиев, не оборачиваясь, безошибочно определил: бакинец.
– Лаборатория Семена Давудовича Мишиева, да?
Это вопросительное «да» и правильно выговоренное его отчество не оставляли никаких сомнений – земляк. Наверное, единственный на весь Гарвард. Только земляк мог назвать его Давудовичем, а не Давидовичем. Только он мог знать, что у «горцаков», как называли в Баку горских евреев, есть имя Давуд. Семен улыбнулся про себя, вспомнив совсем забытое слово «горцак». Ничего обидного и оскорбительного в нем не было. Просто разговорное и изобретенное, скорее всего, самими евреями. Для краткости. Так, русских называли «хохлами», а азербайджанцев – «амшари». Но лишь за глаза, потому что оно для них звучало оскорбительно. Точно так же, как и для армян, которых из-за неумолкающей трескотни и трепа называли «скворцами» или «скворами».