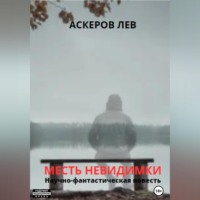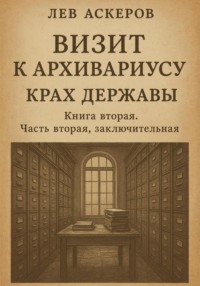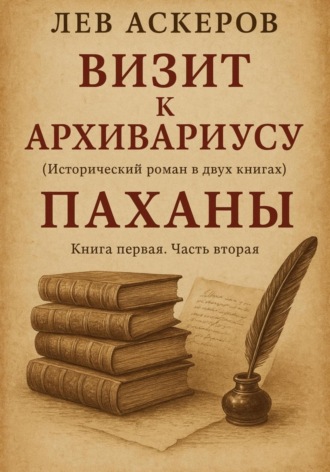
Полная версия
Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах (II)
– Васька Лебедев шепнул,– вырыдал избитый малец.
– Вот как?! – вскричал Мищенко.– Ну и поганец!
Стоявший все это время в отдалении Плевако поманил околоточного к себе.
– Вижу, ты знаешь этого Ваську.
– Знамо дело. Мелкий Дерибассовский щипачок. Кликуха – Комод. Он да другой такой же обормот Петька Косой всё в душу мне лезут. Презенты подносят, угождают, подпаивают…
– Откуда у них деньги?
–Да-к, я сам удивляюсь.
– Что удивляешься?! Деньги из чужих карманов, а ты их не ловишь! – искоса посмотрев на горько всхлипывающего пацаненка, сердито бросил полицмейстер. – Безвинного мальчугана мне привел.
Подойдя к плачущему ребенку, Плевако ласково потрепал его по голове, вытащил из кармана кителя серебряную монетку и вложил в его дрожащую ладошку.
– Вот тебе полтинничек за то, что показал телегу. Спасибо… А этому дяденьке,– он с напускным гневом посмотрел на полицейского, что бил его,– я руки оборву… Если бы не этот постреленок,– гремел Плевако,– мы ни за что не нашли бы украденного добра… Беги домой. Ты герой.
После того, как мальчик ушел, полицмейстер приказал околоточному зайти к нему в кабинет.
– Слушай меня внимательно, Мищенко. Не подавай виду, что ты знаешь, кто навел на телегу. Продолжай принимать от этих щипачей презенты, выпивать с ними и показывать, что ты в доску их человек… А сам слушай, мотай все на ус. Все интересное будешь докладывать лично мне. Понял?
С того дня за Комодом и Косым Плевако зарядил и сексотов. Но именно с того дня Щеголь велел на время забыть о налетах на фургоны. При всем правильном его решении, оно, тем не менее, имело и другую сторону. Отрицательную. Ребятишки загуляли. Денег много. Соблазнов еще больше. Косой, Комод, Плут и Крутошей с Торопыжкой, выпендривались перед девками. В лучших кабаках Одессы устраивали дикие гульбища с мордобоями и битьем посуды. Полицейские их уводили, а через часик-другой, по чьей-то команде, отпускали. Они уверены были, что дело решали ассигнации, которые они щедро совали в карманы легавых. Им невдомек было, что в ангелах хранителях у них ходили филеры Плевако. Он не спускал с них глаз нисколько не сомневаясь, что рано или поздно они выйдут на свою, оставленную ими тропочку… Деньги в конце концов кончаются, а аппетит жить с таким размахом становится зверским… То, что они имели отношение к тем дерзким грабежам, говорил и тот факт, что уже два с лишним месяца ни один фургон ни на дороге из порта, ни у гостиниц никто не уводил.
Внешнее спокойствие полиции обмануло и Артамончика. И снова собрав в «Тихом гроте» свою молодую шайку, он спросил:
– Не пора ли, ребятки, к мирским делам нашим возвращаться?
– Еще как пора! – взвизгнул Косой.
– Мы уже все на мели,– поддержал его Плут.
Все, затаившись, ждали решения пахана.
– Ну что, Сапсанчик, готовь дичь,– положив руку на Фимино плечо, сказал он и, цвикнув уголком рта, добавил:
– Выбери упитанную, но без царских вензелей. Не фраернись.
– Леонид Петрович, давай дождемся Гошу. Мне с ним сподручней. К послезавтрому обещал подъехать. Он у себя, в деревне. Мы там с ним контавались. Ставили его родителям дом.
– Как скажешь, Сапсанчик,– согласился Щеголь.
Все началось складываться неудачно. С вечера перед налетом. Сначала прибежал Плут и сообщил, что легавые замели Юрку Лошадника.
– Взяли на кармане. Только что,– задыхаясь, сообщил он. – Теперь мы без кучера.
– Обойдемся,– после некоторого раздумья сказал Ефим.– Умыкнем вместе с фургоном. За вожжи сядет Гоша. Он закоулки знает не хуже Юрка. Сразу погоним к схрону. Перекладывать ничего не будем.
– Вот это здорово! – воскликнул Комод. – А то кишки роняешь пока перекладываешь.
Только ребята ушли, мать крикнула помочь ей прибить гардины для занавесей. Он это сделал да спрыгнул неудачно. Вывернул лодыжку. Утром ступня вспухла и на нее невозможно было наступать. Пришлось нанимать коляску, чтобы доехать до домишки предков Косого, где собирались кореши. На всякий случай он сошел довольно далеко от места сбора и, от боли, скрежеща зубами, шкандылябил к Косому на одной ноге.
Не надо было в тот день идти на дело. Как чувствовал: не надо было. Их там ждали. Наверняка пасли. Глаз не спускали ни с Косого, ни с Комода. И план Плевако сработал.
Всех взяли на выкраденном фургоне. Как говорится, с поличным. Не отвертишься. Удалось бежать только Гоше Хромову. Молодец, не растерялся. Кулаками да финкой пробился к проходному двору и был таков. Он сначала предупредил о провале Щеголя, а потом пришел к схрону, где их дожидался Сапсанчик.
– Нам с тобой, Фима, домой нельзя. Ребят так калечить станут, что, хочешь-не хочешь они покажут на нас.
– Здесь тоже оставаться нельзя.
– Нельзя,– согласился Гоша.– Думаю, время, чтобы здесь прибраться и смыться, у нас пока есть. Вряд ли они сразу покажут на это местечко.
Тут Хромов ошибся. Под сапогами легавых Косой раскололся почти сразу. Полицейские ворвались в самый момент, когда Фима с Гошей уже было собрались уходить. Кто-то из них саданул по больной Фиминой щиколотки и он, дико закричав, потерял сознание. Очнулся в тюремном лазарете. Хотел подняться, но фельдшер не позволил.
– Лежать! – строго прикрикнул он, обвязывая ступню мокрым желтым бинтом.
«Гипс»,– догадался Фима.
– Здорово они тебя. Ноженьку то твою они того… Сломали,– посочувствовал фельдшер, полагая, что это ему сделали легавые.
Не зря он так подумал. Тело его было сплошь в гематомах. Несколько дней писил кровью. Мерзавцы били по почкам.
Первая отсидка… Она самая страшная. Другой мир. Другая жизнь. Ее начинаешь здесь сызнова. Надо по другому ставить себя. Кулаком, ножом и вероломством. Чтобы выжить, надо чтобы уважали. А чтобы уважали, надо было чтобы боялись… В общем почти также, как и в том мире, за тюремной стеной. Только откровенней, грубей и безжалостней. Здесь все в наготу. Не то, что там, за воротами тюрьмы. Там игра – «Мы на воле», а здесь – «Жизнь в тюрьме». Хотя разницы, по сути, никакой. Игра одна – правила другие.
И там, в тюрьме, ему особенно стала понятна странность Щеголя – модный костюмчик, барские манеры, пахучий одеколон, элегантная тросточка. Иллюзия того, что он в игре – «Вольный на воле».
Трудно вписываться из иллюзии одной жизни в другую. Тем более, к той что знал лишь понаслышке. Особенно в первый раз. Потом устаканивается. Это потом. Ему же повезло с самого начала. Во-первых, потому, что его тюремное крещение началось не с камеры, где своенравие сидельцев могло стоить новичку достоинства, а с лазарета. Во-вторых, он нежданно-негаданно оказался под покровительством старшего тюремного надзирателя Пейхвуса Троцкого, авторитет которого был выше чем у кума. Его в глаза и за глаза уважительно называли Петром Александровичем.. Он считался с понятиями братвы и братва, в свою очередь, считалась с его словом. И офицеры, какого бы они ранга не были, не перечили заключенным, если те говорили: «Так сказал Петр Александрович…» или «Так велел Троцкий»… Он, как говаривали, был паханом тюремщиков. Здесь все держалось на нем. Все челобитные сидельцев решал не кум, а он.
Ефим узнал об этом от фельдшера и от лежащих рядом с ним заключенных.
– Ребятки, ребятки! – натягивая на себя халат, вбежал фельдшер. – Сейчас к нам пожалуют Петр Саныч. Если какие жалобы, лучше скажите сейчас мне.
– Не бзди, Лукашкин! – успокоил его, страдающий чехоткой вор-домушник Пантелей.
– Кто это? Начальник? – поинтересовался Ефим.
– Нет,– поспешно проговорил Лукашкин и добавил:
– Но его слово, что слово начальника. Острее секиры.
Коган вопросительно посмотрел на Пантюху.
– Что зыришь?! – сердито сказал Пантелей.– Так оно и есть. Он человек понятий. Нашенских понятий. Блюдет их правду… За него наш брат горой…
Досказать Пантюхе, каков этот Петр Александрович, не удалось. По коридору, мимо обрешеченных стекол палаты изолятора, двое зеков тянули на брезентовом полотне окровавленное тело какого-то мужчины. Мотнувшаяся, от встряски, голова покойного повернулась лицом к окнам палаты. И Ефим обмер. Это был Гоша.
Его затащили в соседнюю комнату. Брошенное зекам тело Хромова глухо стукнулось об пол. Здесь, в этом помещении изолятора, официально удостоверялся факт смерти и описывалась ее причина.
– Мать вашу! Не бревно ведь! – хлестнул матом, вошедший вслед за зеками, здоровенный мужичище.
– Сорвалось, Петр Саныч. Не нарочно,– проблеял один из зеков.
Оставляя без внимания подобострастно прозвучавшее оправдание, тот же голос, уже мягче, обращаясь, видимо, к Лукошкину, распорядился, чтобы тот осмотрел покойного и составил надлежащий документ.
– Рана колотая… Глубокая… Ножевая… Нанесена в область сердца… Со спины…– елозя на четвереньках у трупа, докладывал фельдшер.
– Мне не надо! На бумаге пиши! Сделай, пока я здесь,– проворчал голос и распахнул дверь в палату.
– Здравья желаем, Петр Александрович,– вразнобой, не дожидаясь его приветствия, поздоровались с ним болящие.
– Желаю здравствовать, души волчьи, души заблудшие и души хворые! – добродушно пророкотал он и, поглаживая свисавшие до самого подбородка густые усы, спросил:
– Что нового, Пантюха?
– У нас прибавление, Петр Саныч.
– Знаю… Коган Ефим Наумович,– взглянув на Ефима, проговорил он и, вдруг, нахмурился
– Ты плачешь?!
Фима кивнул.
– А-а-а, по своему подельнику? – догадавшись, протянул Троцкий.
– Он был мне другом,– всхлипнул Ефим.
– За друга всплакнуть не зазор,– присаживаясь к нему на кровать, проговорил старший надзиратель.– Это по-человечески. Не так ли, Пантюха?
– Святое дело, Петр Саныч.
– Но… Ты знаешь… Когда шел сюда, я думал увидеть волчару, за которого Козырь и Щеголь мазу держат.
– Неуж-то! – встрепенулся Пантелей, воззрившись на Ефима, как на диковинку.
– Ей-ей! – кивнулТроцкий.– А он еще волчонок.
– Покалеченный,– дополняет Пантелей.
– Волки не плачут, Фима. Они – воят. Сила бесова, сидящая в них, задирает им голову к небу, раскрывает пасть, а из нее вой. Откуда он и почему, знаешь?.. Думаешь из утробы ихней?.. Нет, мальчик, нет! Это, выворачивая волка наизнанку, ноет душа его. Что ей неймется? Чего она хочет? То ведомо лишь Господу Богу нашему.
Эта философская тирада главного надзирателя Одесской тюрьмы навсегда запомнилась Когану и выработала в нем принципы отношений к заключенным, которые и снискали ему непререкаемый авторитет в пёстрой публике зеков и всех тюремных служак…
…Троцкий относился к сидельцам, как к людям с заблудшими душами. Старался не пинать, а понять. А поняв, решал – пинать или миловать.
«Если бы люди могли слышать друг друга, не было бы Соловков. Во всяком случае, их было бы меньше,– пряча лицо от встречного жгучего ветра, под ворот тулупа, думал Коган. – Но, не могут они этого. Не могут и все. Отцы не слышат детей. Дети отцов. А что уж говорить о чужих друг другу людях?.. Слышать – не значит слушать ухом. Слышать – значит понять. Понять не умом, а нервом души. Такое дано лишь единицам. И Пейхвус Троцкий был, как раз, из них».
Он удивил его и запомнился. И находясь здесь, в СЛОНе, в роли надзирателя, старался походить на него. «Старался»,– хмыкнул он в овчину. Когда делаешь это сознательно, мало что получается. Оно должно быть в человеке. От небес. В Петре Александровиче оно имелось.
Сейчас, на торфянике, с Гундосом он поступил так, как поступил бы Троцкий. С тем мерзавцем, что по подлому, со спины, убил Гошу, он не церемонился.
Коган зажмурился, чтобы лучше припомнить все это и как-то сам по себе в нем возник, запомнившийся ему на всю жизнь, голос здоровающегося с заключенными Троцкого: «Здравия вам, заблудшие души волчьи!» Он всегда так здоровался.
Ефим улыбнулся. И его снова унесло в тюремный лазарет Одесской тюрьмы. Она, пожалуй, была самым сильным впечатлением его жизни. Как первая любовь. Отрава и мед. Такое не забывается. Ее невозможно забыть…
3.
Над ним здоровенный мужичище с черным полумесяцем усов и добрыми, на выкате, глазами. Меж толстых губ его, двигающихся в такт произносимым им фразам, мерцала белая полоска крупных зубов. Хотя по штату они должны были быть в зверюшном оскале. Как никак, надзиратель. Причем, главный. Сам он был в штате, да душа за штатом.
Продолжая излагать свое философское понимание людей и жизни, Троцкий, глядя в себя, чему-то улыбался и уже не отвлеченно, а вполне конкретно, то ли выговаривал ему, то ли журил.
– Леонтию, мальчик мой,– мерцая белизной зубов, двигались его губы,– если ценить, как ценят на воле – не повезло.
– Леонтию?! – прошептал Фима.
– Да, да! Твоему деду. Он друг мне… Мы с ним с утра пили кофию…
– Он знает?
– Удивляюсь тебе, Фима. Очень удивляюсь. Вся Одесса знает.
Коган прикусил губу. Троцкий решил, что от стыда. Но то было не так. Не прикуси губы, он, наверняка, ляпнул бы, что старик Леонтий не дед ему. Это вряд ли понравилось бы его другу. А главное, это было бы несправедливо по отношению к старикам Бронштейнам. Они относились к нему, как к родному их внуку, Яше. И неспроста, узнав об его аресте от нагрянувших в дом с обыском легавых, мама бросилась не к кому-нибудь, а к Бронштейнам. Не дед ли Леонтий отбивал его от портового околоточного?!
– Так вот, Фимочка, по аршину, коим отмеряют людей на воле, Леонтию не повезло. Сначала сюда, в тюряжку, угодил сын его братика Додика, Лейба, а теперь вот и внучок. Один по политике, другой по воровству. И он и ты…– Петр Александрович сплел пальцы рук,.– ягодки одного поля. Те же воры. Дорога у вас разная, а промысел один. Разная у вас дичь. То бишь, цель… Он и иже с ним, хотят взять лабаз и стать лабазниками, а тебе с твоими корешами, достаточно того, чтобы из того лабаза спереть мешок, а то и больше. Вам все время по терниям шагать, а им, если подфартит и они умыкнут то, чего хотят, в золоте купаться и таких, как ты, вязать теми же терниями, бывших хозяев лабаза…
– Петр Саныч, у меня все готово! – перебив заумные разглагольствования Троцкого, из соседней комнаты крикнул фельдшер.
– Жди! – фыркнул Троцкий и, вновь собрав разбежавшиеся мысли, проскрипел:
– Императорский лабаз вам никогда не разворовать. А Лейбушке с его подельниками, того лабаза, как ушей своих, не видать … Хотя,– хмыкнул он,– чем черт не шутит!.. Тогда аршин людской Леонтию станет по чести,– и, по-отечески, хлопнув его по щеке, надзиратель, кряхтя, поднялся с места.
Кровать облегченно вздохнула.
– Но… То будет аршин Лейбы, но не твой… Ты понял? – уже через плечо, не глядя на него, произнес он.
Коган кивнул. Слукавил, конечно. Ничего из того мудреного, он не понял. Это потом, на каторге, в Сибири, Шофман расставил всё на свои места. А тогда он думал о лежавшем в соседней комнате, мертвом Гоше.
– Кто его, Петр Александрович? – спросил Ефим.
– Фармазонщик,– ответил надзиратель и вдруг, резко обернувшись, спросил:
– Посчитаться хочешь?
– Хотелось бы.
– Ты это брось! С него хватит. Я наказал. Надавал по хайлу и в карцер спровадил…
Сказал и вышел вон.
Из палаты, всё что происходило в коридоре, было слышно и видно.
– При осмотре тела Хромова Георгия Самойловича установлено…– зачитывал Лукашкин.
– Что установлено и без тебя, лекаря, мне ясно! Что там с новеньким?.. Коганом.
– Наложен гипс. Побои обработаны. Температуры нет… Завтра велено в камеру отписать.
– Я тебе отпишу!– взорвался надзиратель. – Изувеченного мальчишку в камеру?! Кто велел?
– Начальство,– произнес упавшим голосом Лукашкин.
– Я – начальство! Держать его здесь до суда! Ясно?.. Он не ходячий! Ясно?.. Дознаватели пусть приходят сюда! Ясно?.. Я так сказал! Ясно?..
– Так точно, Петр Александрович!
– А вы что чурбанами стоите?! – накинулся он на приволокших Гошу зеков. – Забирайте. Несите в нашу часовенку. Помогите отцу Никандру обмыть убиенного.
– Могилку нам копать? – спросил один из зеков.
– Нет, царю Додону! – рявкнул Троцкий.
– Петр Александрович! – не выдержав, выкрикнул Ефим.– У него родители есть.
– Вот как?! – отозвался надзиратель.– Тогда отец Никандр пусть отдаст его им в руки.
– Так он скажет: не положено,– возразил тот же зек.
– Поучи меня! Поучи! – отрубил Троцкий.– Покойный осужден не был. Ежели Никандр станет ерепениться, скажете: так сказал я. Ясно?! Ступайте.
Фразы – «Так сказал…» или «Так велел Петр Александрович» – в тюрьме были законом. И он выполнялся неукоснительно. Месяца два спустя, перед самым судом, Коган воспользовался ими.
Узнав, что Троцкий выехал во Владимир ставить в этап группу Одесских уголовников, он, пришедшему в лазарет старшему офицеру, не моргнув глазом, соврал:
– Перед отъездом Петр Александрович решил перевести меня в камеру.
– В какую?
Это имело значение. Каждая из них заполнялась в строгом соответствии с тактикой тюремного руководства. Коган назвал ту, в какой сидел Гошин убийца.
Сидельцы встретили его на редкость радушно. Были наслышаны и с самого первого дня, как вся банда Сапсанчика оказалась на киче, по всем камерам пошли малявы Козыря и Щеголя – «Принять с уважением». Более надежной охранной грамоты и быть не могло.
Представившись сокамерникам и, как подобает, разместившись, Ефим, через камерного Алешку попросил помочь пошептаться со Смотрящим. Смотрящий отреагировал на его просьбу тотчас же и не через Алешку, а сам.
– Милости прошу, Сапсанчик!– отозвался он из-за занавески, отгораживающий его угол от остальных.
Говорили они долго. И судя потому, как их тени на ткани занавеси пожали друг другу руки, разговор закончился обоюдным согласием. Фима вернулся к себе на койку, а в щели, не до конца задернутой занавески, видно было, что улегся и Смотрящий. Подавляя зевок, он протяжно произнес: «Эх, ма! Была не была!» Кому это относилось, что оно значило и имело ли оно отношение к их базару с Сапсанчиком, стало понятно потом. Немного полежав, Смотрящий кликнул своего Алешку. Потолковав с ним, он вяло выдавив: «Валяй», отпустил его. «Блажит от скуки», – подумала камера. А Алешка, как ни в чем не бывало, занялся своими делами. Где-то под вечер один из зеков, до этого слонявшийся по камере, подошел к Когану и тихо прошептал: «Смотрящий передал саксон»,– и сунул ему под плечо финку. А потом, его сосед по нарам, наклонившись к нему так, чтобы все слышали, попенял:
– Ты что, Сапсанчик, ненакемарился в лазарете? Давай вставай, перекинемся в картишки.
Ефим уговаривать себя не заставил.
Все шло как и расписывалось за занавесом хозяина хаты. Уложив переданный ему саксон вдоль руки, он боковым зрением смотрел на стол, за который, толкая друг друга усаживались азартные сокамерники и ждал нужной реплики. И она прозвучала.
– Эй, профессор!– без тени иронии крикнул один из сидельцев, обращаясь к Фармазону, – Ходь сюда! Покажи класс нашему новому корешку. Он, гутарят, тоже большой мастер.
– Да! Да! – подхватили подученные Алешкой и остальные.
– Посмотрим, какой он мастер,– заглотнул наживку Гошин убийца.
Фима только этого и ждал. Пропустив его мимо себя, он обхватил его сзади и приставив острие саксона к сердцу, с силой толкнул Фармазона к стене. Рукоять финки, ткнувшись затылочком в каменную кладку, вошла в его тело, как в кусок масла. Все произошло в одно мгновение. Фармазон ничего не успел и сообразить. Он обмяк и с разинутым ртом, соскользнув с уже не удерживающих его рук Сапсанчика, рухнул на пол. Камера обмерла. Всего лишь на секунду. А Ефиму она показалась долгой предолгой.
– Самоубийство!.. Самоубийство!..– выскочив из-за стола, всполошено и очень естественно завопил Алешка.
Тут же отдернулась штора Смотрящего.
– Что случилось? – сдвинув брови, выпалил он.
– Борька Фармазон кончил себя,– изображая ужас, подмигнул Алешка.
Смотрящий полоснул по оторопевшим сидельцам острым взглядом.
– Так это?
– Так оно и было!.. Вот те крест!..– вразнобой заюлила хата.
– Почему? – сердито бросил Смотрящий.
– Почему?! Почему?!..– с показной грубоватостью ответил Алешка – Шо, не знаешь, Борькин арбуз был того… Порченым… Ни с того, ни с сего возьми да бухни: «Если продую – порежу себя. Сукой буду порежу!..» Уверен был в выигрыше. Ведь у него, все знают, что ни карта в колоде, то туз. Однако, что-то не сплелось… Продул!
– Остановить то можно было,– как заправский дознаватель, наседал Смотрящий.
– Да случилось то в момент. Приставил финяк к стенке и лег грудью на лезвие. Никто и очухаться не успел,– сказал Алешка.
Смотрящий шагнул к убиенному.
– Не мешай, Сапсанчик!– отстраняя со своего пути застывшего в столбняке Ефима, недовольно буркнул он.– Ступай на нары! Не мешай.
И Коган послушно, сомнамбулой опустился на нары. Он никак не мог поверить, что сделал это. Убил человека… Как он того не хотел, глаза сами смотрели в сторону лежащего трупа и наклонившегося над ним Смотрящего.
– Значит, Фармазон приставил рукоять саксона к стене. К какому месту? Покажите! – продолжал вести следствие Смотрящий.
– Вот сюда,– показал на стенку Алешка.
– Понятно… Этой рукой? Правой? – присев перед Борькой Фармазоном на корточки, уточнял он, а потом, взяв еще теплое запястье бездыханного тела и сжал его пальцы на рукояти финки.
– Этой!.. Этой!.. – закудахтали сидельцы.
Сделав это, он поднялся и негромко, но четко и жестко, выговаривая каждое слово, произнес:
– Говорите, как мне говорили!.. Теперь барабаньте. Зовите вертухаев.
Проведенное расследование подтвердило факт самоубийства. Ни к кому претензий не было.
На следующий день после «самоубийства» Фармазона, состоялся суд над пойманными Потрошителями фургонов. Сапсанчику по малолетству дали два года тюремного заключения. Но кича к нему, как к малолетке, не относилась. Она то знала, кто и за что поставил на перо Фармазона. Прознал и Троцкий. Для него кича была открытой книгой. Он долго с ним не разговаривал. Делал вид, что не замечает. Фиме от этого было не по себе. Он понимал почему и искал случая поговорить и объясниться с Петром Александровичем. И такой случай представился. После внеочередного, устроенного Троцким, свидания с матушкой. Он же, Петр Александрович и сопровождал его назад, в камеру.
– Дядя Петя,– приостановившись, обратился он к нему.
Надзиратель не дал ему больше и пикнуть. Схватив его за шиворот и, повернув к себе лицом, прошипел:
– Я убийцам не дядя! Ясно?!
– Какой я убийца?
Троцкий придавил его к стене.
– Наружностью – нет. Шерстка гладкая, чистая. При мамочке – агнец. Знала бы она, что сердце агнца ее в щетине… Ты человекоубийца!
– Он друга зарезал. Единственного сына в семье… Какой он человек?
– Что ты знаешь?.. Что, скажи, ведомо за нашу жизнь?.. Она никому неведома кроме Него,– Троцкий вздернул палец к потолку.– Он дает жизнь. С понятием дает. А ты ножом по его понятию… Саксоном – в Бога! Как ты мог?!
– А что Борька Фармазон не то же сделал?
– Он это сделал по страсти. А ты бесстрастно. Обдуманно. Страстями управляет Господь, а мыслями – Бес… Смертью Хромова Господь пожалел всю твою бандитскую шайку. Вы все валили на него, твоего друга Гошу. Покойники стыда не имут. Им все равно. С них взял Господь. Это был Божий умысел. А твой?! Неужто он выше! У тебя одно решение – порешить. Оно самое легкое. У Господа решений много и таких, что грешнику небо покажется в овчинку. – Ты стал оружием дьявола. Живым оружием. Ты теперь бесов Алешка.
– По страстям и дела, и грехи вяжутся,– потеряно озирая Троцкого, бурчит Ефим.
– Нет, по глупой гордыне человека, считающего свое разумение правильней Божьего.
– Но он, дядя Петя, мирится и с такими. Они же его твари.
– Не мирится! Уготавливает! – пропуская мимо ушей его обращение «дядя Петя» вдохновенно восклицает он.– И возмездие, и добро от Него неминуемо воздадутся. Оно готовится Им, исподволь, хитроумно, наперед годов и веков. И проводится оно – добро и зло – руками Алешек дьявола. Руками таких, как ты и ваш Лейба, почитающий выше Торы и Библии умствования еврейского мозгляка Маркса. Тот самый, чтокоторый тоже, в свое время, был тоже уготован на дальние задумки Господа…
– Кто он, этот Маркс? Лейба мне о нем ничего не говорил,– дернул губами Ефим.
– Дьявольская смуть, а он, твой Лейба, ее Алешка.
– Ничего я о нем не слышал.
– Эх, Фима, Фима! Что мы слышим и что мы знаем? И знаем ли мы то, что слышим и видим?.. – миролюбиво говорит Троцкий и, роясь в своих мыслях, задумчиво добавляет:
– Жизнь порядком своим, что тюрьма. Есть камеры. В ней Смотрящие. У Смотрящих Алешки. Все они ходят под Кумом. Кум знает: в каждом из них смутьян. И знает, что Алешки хотят стать Смотрящими. Смотрящие – Кумами. И знает он, что он не сам по себе… – надзиратель хмыкает и, криво усмехаясь, подталкивает его к дверям камеры и, щелкая ключом, почти в самое ухо выдыхает: